Антон Заньковский — автор книги «Аристотель и портовые шлюхи», пропагандист революции слизи и исследователь вагинальных перспектив протеизма. Владимир Воронин встретился с ним в разгар пандемии и задал несколько вопросов.

«Искатели истины. Художник — В.Ковенацкий, член Южинского кружка
В.В.:
— Каким образом Вы пришли к модернизму, несмотря на страннический образ жизни? Ведь модернизм в литературе — это выверенность текста, тщательность деталей. Не мешала ли этому богемная разбросанность?
А.З.:
— Мешала. Около десяти лет я постоянно переезжал, не задерживаясь на одном месте дольше 2-3 месяцев. В Петербурге и Ленинградской области сменил больше сорока квартир. Но на самом деле я достаточно дисциплинированный человек, хотя нарочно создаю несколько иной образ. Секрет заключается в том, что я всё это время почти нигде не работал, а только шлифовал свои тексты и охотился на метафоры. Впрочем, доводилось и в трусах стоять перед хорошенькими художницами, но даже этот опыт я успешно использовал. Я вообще склонен всё перерабатывать и заколдовывать по собственному вкусу. Но ведь и Джойс использовал газетный стиль. Ему приходилось сочинять ради денег всякую чепуху, а в итоге мы получили новую реальность, которую породил «Улисс». Письмо вообще, не только экспериментальное, — это всегда кропотливая работа, потому следует вовремя выныривать в кабинет из самых захватывающих приключений.

В.В.:
— В «Ветошнице» мне, как читателю, больше всего запомнилось описание пластмассовых игрушек-мутантов. Вся соль в том, что эти предметы — узнаваемая деталь детства «конца века» и в то же время самый настоящий и очевидный трэш. Эстетика отвратительного — это способ авангардистского эпатажа или вполне реалистический инструмент?
А.З.:
— Никакого эпатажа. Просто в «Ветошнице» есть кое-что от Пруста. Я тоже задействовал весь арсенал детских впечатлений. До болезненности утонченный персонаж оказался в 90-х. Как так получилось? Никак, такими люди рождаются. А мутанты стали его мадленками, потому что Кали-юга. Отвратительным сегодня никого нельзя удивить, это больше не работает.
В.В.:
— Так сложилось, что Вы довольно хорошо знаете мир журналов: «Нева», «Опустошитель», издание телемитов «Апокриф» и т.п. Что это за мир и живет ли в нем искусство?
А.З.:
— А я никогда не читал эти журналы. До меня в «Неве» печатались Зощенко и Солженицын: честные, но простоватые писатели. «Опустошитель» — это театр главного редактора Вадима Климова, который от авторов получает по голове, а потом ещё и рога в придачу, чтобы иметь повод написать очередную гадость. Что касается «Апокрифа», то для меня это просто часть евразийства, что-то из отрочества. «Логос» — вот хороший философский журнал, но там часто меняются редакторы-составители, поэтому некоторые номера делают аррогантные подростки с тёмной экологией вместо мозга.
В.В.:
— Философия традиционализма и евразийства, представляемая в России Дугиным, сумела повлиять на многих интеллектуалов, но не у всех в биографиях были эпизоды практической работы с евразийцами. Понятное дело, что в жизни любой организации есть много аспектов, но вопрос будет в следующем: рассматривали ли Вы евразийство как радикальное или революционное течение? Что на самом деле говорят евразийцы, когда остаются за «закрытыми стенами?»
А.З.:
— Только так и рассматривал. Я начитался представителей того интеллектуального течения, которое принято называть «консервативной революцией». Изучал это всё довольно тщательно, а потом захотел поучаствовать в отечественной реконструкции. С Дугиным дружили важные для меня люди: Курёхин, Летов и Головин. Но мне очень быстро надоела эта история, ведь у меня были несколько иные мотивы для политического энтузиазма, другой стиль презрения. Если хотите знать, одна статья Ольги Седаковой, которая называется «Посредственность как социальная опасность» (достаточно правая статья, с аристократическим пафосом) повлияла на меня больше, чем книги разных генонов и эвол. О чём говорили евразийцы? Да я уже не помню, что-то там о чистках, антисемитизм какой-то пошлейший, но в нашей чёрной фракции мы больше пили игристое… и почему-то ели только красную икру, даже хлеба никогда не было, только икра. И в основном евразийцы были польскими католиками-телемитами, во всяком случае, самые интересные. Я католиком, конечно, не был, но польские гены — это субстанциальное во мне, что-то более важное, чем реализация мизантропии с помощью галлюциногенных доктрин.
В.В.:
— Вопрос про две страны, духовные традиции которых Бердяев считал родственными — Индия и Германия. Известен Ваш интерес как к консервативной революции, так и к религиозной философии индуизма. Можно конкретитировать эти темы — кто особенно близок из немецкой гуманитарной культуры? Хайдеггер? Юнгер? Карл Густав Юнг и его продолжатель Герман Гессе? Аналогичный вопрос о восточных духовных школах. Можно также услышать пару слов о ярких индивидуальностях российского традиционализма, многих из которых Вы знали лично? Как, например, вел разговор Гейдар Джемаль? Как лакировал путинскую действительность Дугин? Какой лак для ногтей предпочитали Сперанская и Ратмирская?
А.З.:
— Честно говоря, Вы интересуетесь не теми людьми. Да, я переписывался с Джемалем, гулял в горах с Дугиным и пил чай с Мамлеевым, но всё это не стоит нескольких часов, которые я провёл в компании Бориса Валентиновича Аверина. — Вот это действительно великий посвященный, инициат и юберменш. Я, конечно, сейчас шучу, ведь к Аверину вульгарный жаргон традиционализма вообще не липнет. Просто до него я встречал в основном куски людей, а порой и чего-то другого, а Борис Аверин — целый Человек. Незадолго до смерти он отнёс в редакцию «Невы» мою поэму в прозе.
Философиями Востока я занимаюсь с 15 лет. Даосские, чаньские тексты, Гиту и Упанишады прочитал до Библии. Это никак не связано с тем, что мой отчим бенгалец — он из мусульманской семьи, но давно уже атеист. Я всегда старался изучать классические тексты и применять проверенные практики. Многие мальчики и девочки склонны оправдывать «тантрой» своё разнузданное поведение, но я никогда не питал иллюзий по этому поводу. Я верю в ту мощь, которую в Индии называют «tapas», но использую и некоторые китайские рекомендации. Западная философия началась для меня с Шопенгауэра, потом был Ницше. Гессе я всего прочитал в 15-17 лет, считал его любимым писателем, зато к Юнгу всегда был равнодушен, мне ближе Башляр. В 20 лет серьёзно читал немецких романтиков, особенно Новалиса и Гёльдерлина. Они меня и склонили вправо, где уже поджидал Эрнст Юнгер, которого и теперь очень люблю за «Сердце искателя приключений», «На мраморных утёсах», «Гелиополь». А ранний Юнгер меня сейчас вовсе не интересует, как и другие правые крикуны. Вот почему индивидуальности обсуждать не очень хочу, но могу сказать, что Джемаль был обаятельным человеком, как и многие другие злодеи, Дугин ничего не лакировал, просто пытался угодить всем сразу: как шизогитлеристам, так и квасным патриотам, руководствуясь манипулятивными рекомендациями Джордано Бруно. Не очень хорошо получалось — и слава Аллаху! Что меня поразило, так это чрезвычайная неотесанность «Олимпа», ведь сравнивать приходилось с петербургской профессурой, а это небо и земля. Мой учитель Р. В. Светлов — вот аристократ духа, рядом с которым весь Южинский кружок — просто гопота. Но Сперанская и Ратмирская — это другое дело, прекрасные умные дамы, красавицы, отличницы, пользовались только лучшим лаком. С Адрианой мы были близкими друзьями, с Натэллой не такими близкими, но тоже хорошо общались. Ничего плохого не могу и не хочу вспоминать, весело же было. Жаль, что я потом что-то там наговорил в сердцах, стоило тише порвать отношения, когда началась война с Украиной. Просто моя совесть больше не позволяла мне участвовать в карнавале, а на других война так отрезвляюще не подействовала. И меня это возмутило и разозлило. Сущность конфликта состоит в том, что я никакой не правый интеллектуал, а петербургский интеллигент, просто с дурным характером, буйный, но не до кровожадности.
Что там сейчас происходит — я не знаю. Но мне кажется, что Адриана давным-давно занимается совсем другими делами. А Сперанская, вероятно, могла бы даже (на своём уровне) превзойти собственных учителей, ведь удалось же Ханне Арендт оставить позади Хайдеггера.
В.В.:
— Поговорим о текстах. Есть ли у художественного текста какие-то стадии, будь то вызревание его в сознании, будь то стадии письма и правки? Ваш текст вообще обладает темпоральностью или скорее относится к «вечному настоящему?» Вы всю жизнь пишете одну и ту же книгу? Или это все-таки принципиально разные типы текстов? Насколько важны автобиографические мотивы и вообще те или иные реалии? Принципиальная ли позиция, что художественный текст обязательно должен преображать действительность, а не копировать её? В разговоре мы определили некую традицию. Романтики, затем волюнтаризм Шопенгауэра и Ницше, затем Гессе и Юнгер, которых также можно трактовать как наследников немецких романтиков. В связи с близкостью этой литературно-философской традиции, не было ли у Вас желания работать в жанре афоризма или поэзии?
А.З.:
— Начну с последнего вопроса. До 30 лет мой круг чтения радикально менялся каждые три года. Моя настоящая литературная инициация случилась в 13 лет, когда я прочитал «Сексус» Г. Миллера. Меня там вовсе не эротика заинтересовала, а какой-то новый стиль письма, который действовал на меня как-то даже психоактивно. До 15 лет я прочитал всю «контркультуру», особенно увлёкся Уильямом Берроузом, Кизи, Хантером Томпсоном и Егором Радовым. Мы в те времена серьёзно экспериментировали, я был этаким Тимоти Лири с улицы Лизюкова. У меня была гильза от авиационного снаряда ВЯ-23, в которой я носил марихуану, гуляя по Воронежу. В 2003 году на Хэллоуин у меня случился сердечный приступ, это было на территории завода «Электросигнал», где в те времена проводили мероприятия с танцевальной электронной музыкой. Даже скорую вызывали. К тому времени я уже увлёкся Кастанедой, а потом буддизмом и прочим. В итоге я перестал употреблять вещества, даже алкоголь, стал вегетарианцем. С 17 до 20 было полное погружение в Серебряный век, тогда и русскую классику осознанно прочитал. В те времена я писал стихи с размером и рифмой. Хорошо, что вовремя уничтожил их. Потом изучал в основном античную и средневековую философию, оккультистов, немецких классиков, постепенно скатываясь в «консервативную революцию» и традиционализм. Но в области литературных практик мне уже в 24 года намного ближе были Бунин, Набоков, Саша Соколов, чем романтики и Гессе.
Мой любимый жанр — стихотворения в прозе, из них сделаны некоторые мои крупные произведения, условная фабула которых и общее настроение рождаются мгновенно, затем я постепенно записываю их, а потом ещё дольше редактирую и очищаю. Такой стиль письма был не только у Флобера. Старые тексты я стараюсь забыть после публикации, они мне не нравятся, так бывает у большинства писателей.
Я не только не пишу всю жизнь одну книгу, но и сам радикально меняюсь каждые несколько лет. Остаётся только самое важное… томик Упанишад.
Есть несколько ингредиентов для текста: память, внешние впечатления и воображение. В некоторых текстах больше жизни, но меньше моего прошлого и моих фантазий, в других больше фантастического, что-то есть из памяти, но и вопящие лягушки тоже могут вдруг надымить в повесть папироской импрессионизма. А есть и такие произведения, в которых я описываю события почти без изменений, но сами события бывают чертовски фантасмагоричными.
В.В.:
— У меня был еще заготовлен вопрос про контркультуру, но Вы сами заранее на него ответили, начав с Миллера. Могу просто уточнить: сначала был Миллер, а не Джойс, именно в плане «потока сознания», психоактивности? И относительно Серебряного века – интересен ли «путь» Андрея Белого? Он же начинал со сходного «микса» немецкой философии и индийской мудрости.
А.З.:
— Джойса мне читал один друг семьи вместо сказок, но сам я его в сознательном возрасте освоил. До Миллера был Кафка, который в те времена не оказал на меня определяющего влияния, потом уже прочитал его нормально. Очень люблю роман «Петербург».
В.В.:
— Немного гностицизма. Что такое женщина? Вещь? Животное? Пленная душа мира? Что такое мужчина? Беззаботный мерзавец? Укротитель хаоса или неизбежная жертва бездны?
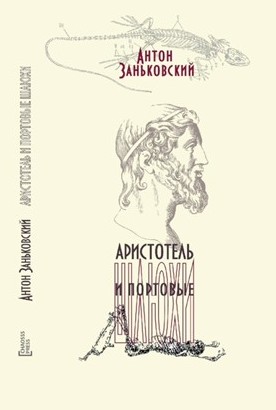
А.З:
— Гностицизм органически мне чужд, я люблю природу, зло не в материи а в зависимости от неё. Женщина — это не враг точно, скорее индикатор. Если с тобой всё хорошо, женщина не захочет равноправия, но если с тобой всё и впрямь хорошо, ты сам не будешь против этого равноправия. А феминизм третьей волны — это страшная чепуха для травмированных дур. Что поделать? Люди склонны скатываться в различную пошлость. Мужчина почти ничем не отличается от женщины, просто лучшие из нас уже готовы стать богами, а лучшие из женщин готовы стать мужчинами, но не делают этого ради нас. Выходит, что женщины даже благородней.
В.В.:
— Банальный вопрос в духе «футбольного патриотизма». Кем Вы себя считаете, воронежцем или петербуржцем?
А.З.:
— Мои предки, Лукины и Заньковские, участвовали в строительстве Петербурга. Из этого города родственники по линии матери и отца. Санкт-Петербург — единственный город в России, в котором я чувствую себя в своей тарелке. С Воронежем у меня связаны кое-какие воспоминания, но сам город и его жителей я терпеть не могу, так было всегда, с детства. Мне кажется, что вся Россия — это сплошное постсоветское недоразумение, наполненное какими-то озлобленными отбросами, а в Петербурге можно смотреть по сторонам без отвращения. Деревню я тоже люблю, но глухую, чтобы людей почти не было. Сейчас живу на краю живописного села в заброшенном доме, который я самовольно захватил, чтобы реализовывать здесь свои изощренные оформительские фантазии в стиле Гюисманса и Танидзаки.
В.В.:
— В связи с вышесказанным назрели уточняющие вопросы про Россию. Вы говорите, что наша родина — сплошное недоразумение. Но разве, несмотря на всяческий дискомфорт, Россия не может вызывать интерес, как своеобразное «проклятое место»? Интересно было бы узнать про Ваше отношение к дореволюционной России. Кажется ли Вам Российская империя «нормальным государством», в потивоположность советской и постсоветской формации?
А.З.:
— Дореволюционная Россия XVIII — XIX была восхитительной страной, именно тогда сформировался тот, прошу прощения, гештальт, который заставил Рильке быть русофилом, а голодающие крестьяне — это неприятно, но не катастрофично. И ведь потом с этими крестьянами поступали ещё хуже. До революции у нас была в основном замечательная интеллигенция, которая сумела бы постепенно вытащить страну в монархию с социал-демократической политикой — как в Норвегии сейчас, только лучше, потому что мы не мещанские протестанты были. Русский человек любил осуществлять потлач, истреблять все запасы. Это хорошо, это весело. Надо было делать из рабочего аристократа, до нормальной жизни надо было дотягивать постепенно всё население, а не заставлять всех «большеветь», т.е. превращаться в социальную материю, в отбросы. Но победили как раз отбросы, худшая партия, так всегда и бывает. Так и с Гитлером: он был представителем самого примитивного течения тех лет, ведь среди немецких ультраправых встречались очень интересные критики капитализма и марксизма… Кстати, нацисты всех пугали большевиками: если не мы, то будет у вас Ленин. Именно так и пришли к власти. Ergo: если бы в России не было красного террора, то не было бы Второй мировой войны. А теперь в нашей стране все радикально омещанились. Я бы вернулся в Индию. Кроме всего прочего, там очень живописные и добронравные нищие. Женщины с детьми сидят в грудах мусора, но в красивых сари — любо-дорого смотреть.











