Не припомню, когда мне впервые повстречалось имя Афанасия (Атаназиуса) Кирхера, но конечно же из моей памяти не сотрется воспоминание о том, как я начал листать его книги в поисках некоторых из его замысловатых иконизмов (один из способов представления внеязычного содержания в языковом знаке). В конце 1959 года я приступил к сбору материалов для книги «Иллюстрированная история изобретений», которая впоследствии вышла в издательстве «Бомпиани», и для этого мне понадобилось работать не только в различных библиотеках, но и в архивах естественно-научных музеев, в том числе в архиве (богатейшего) Немецкого музея, расположенного в Мюнхене.
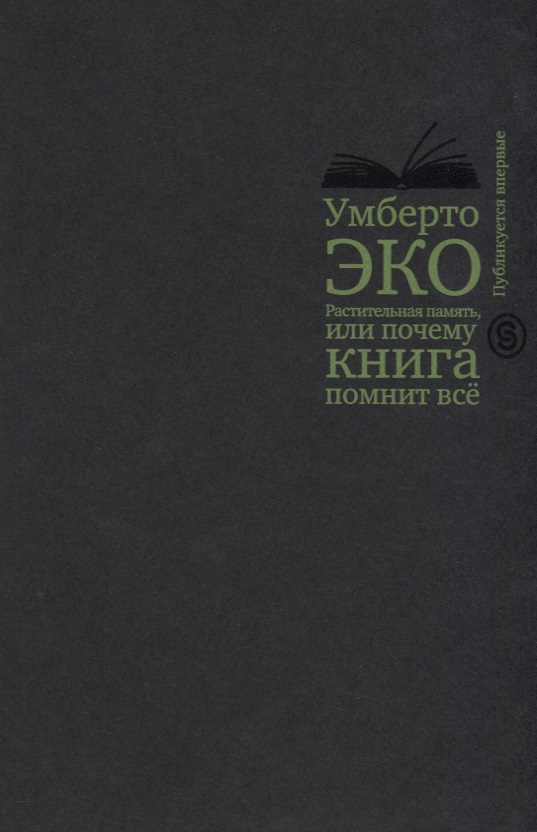
Почему я вспоминаю это событие, которое могло бы пригодиться разве что для моей ненужной автобиографии? Потому что в то время о Кирхере вспоминали лишь как о6 ученом, предвосхитившем будущие изобретения, например, фотографию или кино, как о предшественнике Жюля Верна, а между тем книги его пылились на библиотечных полках, и лишь изредка в них заглядывал какой-нибудь запоздалый сюрреалист или охотник за всем экстравагантным и курьезным, вроде Юргиса Балтрушайтиса. Просматривая библиографию таких книг, как Р. Conor Relly “Athanasius Kircher S.J., Master of a Handred Arts” («Иезуит Афанасий Кирхер, мастер ста искусств», 1974) и Valerio Rivosecchi “Exotismo in Roma barocca” («Экзотизм в барочном Риме», 1982) с участием Эудженио Баттисти и Джулио Макки, которые и раньше проявляли интерес к этой фигуре.
Любопытно, что когда в начале 1980-х годов я начал собирать все произведения Кирхера, одну книгу можно было купить за каких-нибудь восемьсот тысяч лир. А сегодня, не говоря уже о таких сочинениях, как полный Oedipus Aegyptiacus («Эдип Египетский»), China monumentis, qua sacris qua profanis… Illustrata («Китай, представленный священными и мирскими памятниками») или «Универсальная музургия» / «Универсальное музотворение», цена которых достигает нескольких десятков миллионов лир за каждый экземпляр, малые произведения без иллюстраций могут тоже стоить нескольких миллионов, как, например, «Архетип политики» — книга более чем скромная с библиофильской точки зрения.
Я привожу эти данные, желая показать, что за последние двадцать лет Кирхер удостоился внимания не только ученых, но и любителей и библиофилов. Оно и неудивительно, ведь его книги великолепно иллюстрированы, хотя каталоги XIX века презентовали их как мало востребованные, из чего следует, что даже понятие ценной иллюстрации со временем меняется.
Притягательность Кирхера связана, в частности, с тем, что его трудно классифицировать. Можно свести воедино ошибочные суждения, которые он высказывал на протяжении всей своей жизни, книга за книгой, и выставить несчастного иезуита этаким самоучкой, лишенным критического мышления и не выдвинувшим ни одной верной идеи. В таком случае его следовало бы зачислить в категорию «литературных безумцев», как говорят французы, включающую и безумцев от науки: этой тематике посвящены каталоги и специализированные библиотеки. Для человека, игравшего видную роль в ордене иезуитов и пользовавшегося глубоким уважением современников, в частности Лейбница, было бы печально увидеть себя экспонатом музеев естественной тератологии, инициатором которых он сам выступал, и годящимся разве что для какого-нибудь Wunderkammer (Кабинета редкостей).
C другой стороны, в его произведениях научность, как мы сказали бы сегодня, и завороженность необычайным вкупе с рискованными и конечно же опрометчивыми гипотезами зачастую неотделимы друг от друга. Взять хотя бы его египтологические исследования начиная с “Prodromus coptus sive aegyptiacus” («Коптские или египетские веяния», 1636) и “Obeliscus Pamphilius” («Памфилийский обелиск», 1650), за которыми последовал монументальный Oedipus Aegyptiacus («Эдип Египетский») (1652-1654), а позднее — “Obelisci aegyptiaci interpretation hieroglyphica” («Толкование иероглифов с египетского обелиска») (1666) и Sphynx mystagoga («Мистагогический Сфинкс») (1676). Кирхер изучал римские обелиски и другие материалы, которые только мог найти в Риме, и на этой основе разработал интересную, но в корне ошибочную теорию дешифровки иероглифической письменности. Тем не менее без рисунков, приведенных в его книгах, Шампольон не смог бы досконально изучить данную область и найти верный ключ к прочтению всех изображений (правда, в его распоряжении был Розеттский камень с текстом на трех языках). Даже сегодня Кирхера называют отцом египтологии, хотя отец этот был наделён не в меру бурным воображением.

Мы могли бы проявить великодушие и записать в его актив лишь то, в чем он преуспел. В своем труде «Китай, представленный священными и мирскими памятниками» (1667), основанном на отчетах его собратьев по Обществу Иисуса, он собрал и документировал невероятное количество сведений об этой стране, снабдив их своими толкованиями. Правда, он допустил немало ошибок, объяснимых и фантазией граверов (которую, вообще-то говоря, он сам все время подстегивал), но это не помешало ему прийти к заключению, что китайские идеограммы имеют иконическое происхождение (о чем, как ни странно, не подозревали такие знаменитости, как Бэкон или Уилкинс). Кирхер предвосхитил будущее культурной антропологии, методика которой предполагает организацию экспедиций в отдаленные неведомые края и сбор материалов всякого рода (он явил собой прекрасный образец неутомимого исследователя, который, не покидая собственного дома заставлял работать на себя собратьев по ордену).
В труде Ars magna lucis et umbrae («Великое искусство света и тени»; 1646) и особенно в издании 1671 года с описанием катоптрического (зеркального) театра и таблиц преломления света Кирхер предвосхитил уже принципы кинематографа, а в книге Ars magna sciendi («Великое искусство познания»; 1669), навеянной Раймундом Луллием и изобилующей данными комбинаторного анализа, он высказал догадки, которые до сих пор приводят в изумление специалистов в области информатики. Правда, в обеих названных областях он был по большому счету эпигоном: Джакомо Делла Порта упоминает камеру обскуру уже в ХVI веке, Христиан Гюйгенс изобрел «волшебный фонарь» (Laterna magica), популяризатором которого стал Томас Расмуссен Вальгенштейн, что же касается кирхеровских чудес комбинаторики‚ то их предварил Раймунд Луллий.
Тем не менее не подлежит сомнению, что Кирхер умел пользоваться микроскопом и понял, что эпидемия чумы вызывается микроорганизмами; он не отважился стать последователем Галилея, а пошел за Тихо Браге, предложившим компромиссный вариант — неверный, но оригинальный, — который для той эпохи был не так уж плох. И конечно же нельзя обойти молчанием кирхеровские наблюдения над вулканами, на которые он, между прочим, самолично поднимался: знаменательно, что не так давно именно вулканологи выпустили превосходное репринтное издание сочинения Кирхера Mundus subterraneus («Подземный мир»).
Заметим, что упомянутый труд был всерьёз воспринят уже его современниками, в частности даже теми, кто разделял лишь небольшую часть содержащихся в нем идей (Гюйгенс говорил, что Кирхера («следует более ценить за набожность, чем за познания»). Как бы то ни было, ещё до выхода книги Ольденберг написал о ней Бойлю, Спиноза послал экземпляр Гюйгенсу. Она где-то упоминается у Стено (Никола Стеноне, иначе Нильс Стенсен. — Пер.), тот же Ольденбург написал на нее рецензию в первом томе «Философские труды Королевского общества», а в следующем номере опубликовал один из разделов труда Кирхера «Эксперимент по способу приготовления ликера, который приобретет цвет мрамора…»).
Разумеется, и в этом произведении Кирхер остался верен себе: ненасытный и всеядный, он говорит о Луне и Солнце, о морских приливах и океанических течениях, о солнечных затмениях, подземных водах и огнях, о реках, озерах и истоках Нила, о соленых озерах и рудниках, об ископаемых организмах, металлах, насекомых и травах, о дистилляции, фейерверке, самозарождении и панспермии, но с той же непринужденностью, повествует о драконах и великанах, предлагая читателю взглянуть на их изображения (впрочем, и знаменитые натуралисты, от Альдрованди до Джонстона, не могли обойтись без драконов, да и Кирхер демонстрирует некоторые знания об игуане, а натуралист, видевший игуану или слышавший о ней, может воспринять всерьез и драконов).
Muntus интересен не только с точки зрения геологии — он представляет огромную ценность для и истории культуры и, я бы сказал, для становления научного мировоззрения в противовес оккультным бредням.
В одиннадцатой книге Mundus’a Кирхер сводит счёты с алхимией. Делает он это как историк и как ученый-экспериментатор: с одной стороны, он дает обзор алхимической традиции — от древних истоков (само собой, повествование начинается с Гермеса Трисмегиста, но при этом получают освещение коптские и еврейские истоки, а также арабская традиция) до псевдо-Луллия, Арнольда из Виллановы, Роджера Бэкона, Василия Валентина и т. п.; с другой стороны, в своей лаборатории Кирхер оборудовал (и показал на иллюстрациях) различные виды алхимических печей, собрал старинные рецепты, испытал их и подверг критике за расплывчатость и бахвальство. Понятно, что для испытания (или повторения) целого ряда традиционных рецептов он принимал у себя немало проходимцев, обучивших его своим трюкам, в результате чего ему удалось постичь их «рациональные», как мы бы сказали, основания, то есть основания, объяснимые опытным путем, без опоры на гипотезу о философском камне.
Таким образом, Кирхер проводит различие между теми, кто считает алхимическое превращение невозможным (либо возможным благодаря Божественному или дьявольскому вмешательству), но при этом продолжает химические исследования и занимается металлургией и теми, кто продает поддельное золото и серебро и зарабатывает шарлатанством. В рассматриваемую эпоху было совсем не просто состязаться с Парацельсом, позволяя себе критические замечания в его адрес, в особенности же (этому посвящена седьмая глава книги ХI) обрушиться на такие признанные авторитеты, как Сендивогий (Михаил Сендивогий, иначе Михаэль Сендивогиус либо Михал Сендзивой. — Пер.) или Роберт Фладд, и со cтрастью, подобающей скорее экзорцистам, решительно выступить против розенкрейцерской традиции, которая на протяжении уже сорока лет искушала добрую половину Европы. Разумеется, то был период борьбы Контрреформации с протестантизмом, из недр которого вышли новые розенкрейцерские манифесты, но по сути дела в середине семнадцатого столетия Кирхер отстаивал более рациональный и экспериментальный подход, который впоследствии будет отличать химическую науку, притом что алхимическая традиция преспокойно просуществовала вплоть до масонов XIX века, и более того — судя по многочисленным текстам с прославлением мудрости Традиции, имеющим хождение в наши дни, — она и еще жива, по крайней мере в своих мистико-герметических аспектах.
Из всего сказанного можно заключить, что главная книга Кирхера (я бы сказал, его «гроссбух») содержит в равной мере прозрения и ошибки: злые языки скажут, что коль скоро на протяжении десятков тысяч страниц он занимался абсолютно всем, то статистически иначе и быть не могло, а сам автор напоминает скорее азартного игрока.
Тем не менее вопрос о притягательности Кирхера остается открытым. Я бы сказал, что он завораживает нас по тем же самым причинам, по которым им было допущено столько промахов. Сюда относятся и его ненасытность, и его научная «булимия», энциклопедическая широта и сам факт, что он культивировал свои интересы, оказавшись в промежутке (вины его в том нет) между двумя эпохами энциклопедии. Первой была греко-римская (вспомним Плиния Старшего) и средневековая эпоха, когда энциклопедист собирал всё им услышанное, не удосуживаясь проверить достоверность фактов; второй — эпоха просвещенческой Encyclopedie (“Энциклопедии”), когда энциклопедист руководил работой множества экспертов, каждый из которых рассуждал лишь о том, о чём знал на основе непосредственного опыта, Кирхер рассуждал обо всём — даже о том, о чём знает лишь понаслышке, но для всего ему хочется подобрать доказательство, иллюстрации, диаграммы, выяснить принципы работы, причины и следствия. Явившись слишком поздно (или слишком рано), он рассуждает в научном тоне о таких вещах, в которых ошибается, и не отказывается рассуждать обо всём.
Главной причиной его притягательности служит, без сомнения то, к чему он непосредственно не приложил руку, но уж точно приложил ум, — иконизмы.
Этот человек сумел мобилизовать воображение своих помощников, направив его на создание самого необычного из барочных театров. О ведущей роли Кирхера свидетельствует тот факт, что иллюстрации всех его книг, кажется, почти всегда выполнены в одной и той же манере. В иконизмах Кирхера претензия на научную точность порождает неуемное буйство фантазии, так что становится совершенно невозможно — труднее, чем в рукописном произведении — отделить истину от вымысла. Отнюдь не случайно Кирхера полюбили некоторые сюрреалисты. И вправду, его отношение к познанию носило сюрреалистический характер. Он тяготел ко всему необычному и диковинному: выражением его поэтического языка и искуплением множества допущенных им ошибок стало посвящение императору Фердинанду III, предваряющее третий том «Эдипа Египетского», где иероглифические фигуры превращаются в некий механизм для порождения галлюцинаций: «я разворачиваю перед твоими очами, о Священнейший Цезарь, полиморфное царство Иероглифического Морфея: больше скажу, театр, располагающий огромным разнообразием чудищ, и не просто чудищ в их нагом природном виде, но столь украшен он загадочными Химерами древнейшего знания, что, как я верю, острые умы сумеют почерпнуть оттуда неизмеримые кладези науки, не говоря уж о пользе для словесности. Туг Пес из Бубастиса, Лев из Саиса, Козел из Мендеса, устрашающий Крокодил, разевающий ужасную пасть, раскрывают тайные смыслы божества, природы, духа Древнего Знания, взыгравшего в прохладной тени образов. Тут томимые жаждой Дипсоды, ядовитые Аспиды, хитрые Ихневмоны, жестокие Гиппопотамы, чудовищные Драконы, жаба с раздутым брюхом, улитка в изогнутом панцире, мохнатая гусеница и прочие бестелесные образы составляют чудесно упорядоченную цепь, что раскручивается в святилищах природы. Здесь предстают тысячи экзотических вещей во все новых и новых образах, подверженных метаморфозам, обращенных в человеческие фигуры и снова возвращающихся в свое обличье, во взаимном переплетении звериного начала с человеческим, а человеческого — с искуснейшим божеством; наконец, божество, как о том гласил Порфирий, распространяется по Вселенной, вступая со всеми тварями в чудовищный союз; и там, величественные в разнообразных своих ликах, выступают и Собакоголовый, вздымая поросшую шерстью выю, и отвратительный Ибис, и Ястреб в носатой маске < . . . > , и под оболочкой невинного, влекущего к себе Скарабея таится жало Скорпиона […следует перечень на четыре страницы], вот что мы созерцаем, вот что в пантоморфном театре Природы разворачивается перед нашим взором под аллегорическим покровом скрытых значений»
Трудно классифицировать Кирхера, который всю свою жизнь прожил, опираясь одной ногой на придуманный им «пантоморфный» театр, а другой — на описания de visu собираемых им данных. Ярчайший выразитель духа барокко, Арчимбольдо истории науки, он кончил тем, что в наше время его фигура стала притягательной скорее для мечтателей, чем для ученых. В сущности, именно Кирхеру мы обязаны идеей о том, что, занимаясь наукой и техникой, можно предаваться мечтам. Это известно каждому ученому, если только он не сдерживает себя до известного предела; это известно каждому писателю-фантасту, если только он не ставит целью выйти за этот предел. И здесь Кирхер опять-таки оказывается на равном удалении от ученого с характерным для него стремлением к точности (за пределы которой он тем не менее все время стремится выйти) и от фантаста с плодами его воображения (которое он тем не менее все время старается обуздывать). Пожалуй, мы перечитываем заново Кирхера (но прежде всего заново разглядываем его) как раз из-за творческого напряжения (обусловленного его равноудаленностью от крайностей ученого и фантаста), с которым он, к счастью, оказался не в состоянии совладать.
Умберто Эко
Приобрести книгу «Экспериментальная физиология Кирхера» в издательстве chaosss/press







