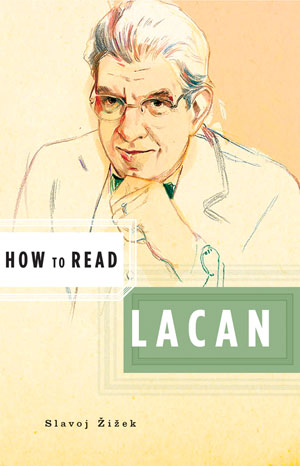Ибо подлинная формула атеизма вовсе не Бог умер – даже выводя функцию отца из его убийства, Фрейд тем самым отца защищает. Бог бессознателен – вот подлинная формула атеизма. 1
Для того, чтобы правильно понять это высказывание Лакана, его следует рассматривать в связке с другим его тезисом, вместе с которым они, рассматриваемые как части некой мозаики, складываются в одно связное утверждение. Именно благодаря их взаимосвязи (и отсылке к фрейдистскому сновидению об отце, не знающем о том, что он умер) 2, мы оказываемся способны полностью развернуть эту мысль Лакана:
Как вы помните, сын Иван, заманив его на опасные тропы, которыми движется мысль человека цивилизованного, заводит речь о том, что если Бога, мол, не существует… – если Бога нет, подхватывает отец, тогда все позволено. Мысль, конечно, наивная, ибо мы, аналитики, прекрасно знаем, что если Бога нет, то не позволено вообще ничего. Невротики каждый день дают тому наглядный пример. 3
Как Читать Лакана / Бог мёртв, но он не знает об этом
“Бог мёртв, но он не знает об этом”: Лакан играет в Бобо
Современный атеист думает, что бога нет, но он не знает о том, что бессознательно он продолжает верить в бога. Современность давно уже не определяется фигурой верующего, скрывающего свои личные сомнения в вере и занятого трангрессивными фантазиями. Сегодня мы сталкиваемся, наоборот, с субъектом, предъявляющим себя как толерантного гедониста, участника гонки за счастьем, чьё бессознательное оказывается территорией запрета – сегодня мы имеем дело с вытеснением не каких-то запретных желаний или наслаждений, но с вытеснением собственно самого запрета. Утверждение о том, что “если Бог мёртв, значит запрещено всё”, означает следующее: чем больше вы воспринимаете себя как атеиста, тем больше саботирующих ваше наслаждение запретов господствует в вашем бессознательном. (Также не стоит забывать о противоположном утверждении: если Бог есть, тогда всё позволено – разве эта мысль не является наиболее кратким описание религиозного фундаменталистского существования? Ведь если Бог существует, тогда фундаменталист является Его орудием, и тогда ему позволено всё, так как любое его действие – проявление божественной воли…)
Закат репрессивной власти не приносит свободы, но приводит к рождению новых и более строгих запретов. Чем объясняется подобный парадокс? Достаточно обратиться к опыту, знакомому каждому из нас с детства – несчастному ребёнку, которому приходится в воскресный полдень отправиться к бабушке в гости вместо того, чтобы быть допущенным к играм с друзьями. “Мне всё равно, что ты чувствуешь, но ты отправишься в гости к бабушке и будешь вести себя там соответствующим образом”, – таково старомодное обращение отца к упрямому сыну. В таком случае положение сына не так уж и плохо, как может показаться, ведь будучи принуждённым делать то, чего он не желает, у него есть возможность сохранить свою внутреннюю свободу и возможность (в будущем) восстать против отеческой власти. Обращение современного “постмодерного” отца к сыну оказывается намного более хитрым: “Ты ведь знаешь как сильно бабушка тебя любит! Но я не собираюсь тебя принуждать проведать её, можешь отправиться к ней в гости только в том случае, если действительно хочешь этого”. Любой не глупый ребёнок (а они как правило не глупы) быстро распознает ловушку подобного позволительного отношения – под маской свободного выбора скрывается еще более авторитарное понуждение, чем в случае со старомодным отцом, требующее не только навестить бабушку, но и сделать это добровольно, преодолевая свободу собственной воли. Этот фальшивый свободный выбор оказывается предписанием бесстыдного супер-эго, которое лишает ребёнка его собственной внутренней свободы, требующего от него не только поступать соответствующим образом, но также требующего от него желать так поступать.
Лет десять назад в среде лаканистов был распространён один анекдот, предлагающий нам прекрасный пример ключевой роли знания Другого. Анекдот повествует о мужчине, который считал себя зерном, и которого забрали в психическую клинику, в которой различными способами убеждали его в том, что он человек, а не зерно. И когда он уже казалось был исцелён (был согласен с тем, что он человек, а не зерно) и ему было позволено покинуть клинику, он неожиданно возвращается обратно, трясясь от страха. За дверью клиники он увидёл цыпленка, который клевал зерна, и испугался, что тот его съест. “Дорогой мой друг”, – сказал ему доктор, – “вы ведь знаете, что вы не зерно, а человек”. “Конечно же, знаю”, – ответил он, – “но разве цыплёнок об этом не знает?”. Недостаточно убедить пациента в бессознательной истине его симптомов, необходимо подвести само бессознательное к принятию этой истины. Именно в этом и заключается основная задача психоаналитического лечения. Также это верно и в отношении марксистской теории товарного фетишизма:
На первый взгляд товар кажется очень простой и тривиальной вещью. Его анализ показывает, что это — вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений. 4
Маркс не утверждает (привычным для критики эпохи Просвещения образом), что критический анализ должен показать как товар, как нечто таинственное и теологическое, возникает в результате “обычных” действительных процессов, а, наоборот, он утверждает, что задачей критического анализа является выявление “метафизических тонкостей и теологических ухищрений” в том, что, на первый взгляд, кажется обычным объектом. Основы товарного фетишизма (наше представление о товарах, как о неких магических объектах, наделенных характерной метафизической силой) лежат не в наших представлениях, не в нашем (не)понимании реальности, но в самой социальной реальности. Другими словами, марксистский подход к буржуазному субъекту, поглощенному товарным фетишизмом, будет звучат не как: “Вам может казаться, что товар – это некий магический, наделенный особыми силами, объект, но, на самом деле, он является материальным воплощением отношений между людьми”, – но скорее как: “Вы можете думать, товар – это простое воплощение отношений между людьми (например, деньги – это простой ваучер, дающий вам право на часть социального продукта), но, на самом деле, вам так не кажется. В вашей социальной реальности вы постоянно сталкиваетесь с необъяснимым фактом того, что товар для вас действительно оказывается неким магическим, наделенным особыми силами, объектом”. Возвращаясь к предыдущему анекдоту, давайте представим себе буржуа, проходящего курс марксизма о товарном фетишизме. После окончания курса, он возвращается к своему учителю и говорит, что всё равно оказывается жертвой товарного фетишизма, на что учитель говорит ему: “Но вы ведь знаете, как всё обстоит на самом деле, вы ведь знаете, что товары являются лишь выражением социальных отношений, и в них нет ничего магического!”. А буржуа ему отвечает: “Конечно же, знаю, но товары, с которыми я имею дело, об этом не знают!”. Именно этому были направлены слова Лакана, о том что настоящей формулой материализма является не “Бога нет”, но “бог – бессознателен”. Достаточно вспомнить о том, как Милена Ясенская писала в письме Максу Броду о Кафке:
Вещи подобные деньгам, фондовой бирже, министерства финансов, печатные машины, прежде всего, являются для него чем-то совершенно таинственным (чем они на самом деле и являются, но не для нас) 5
Тут Ясенская указывает нам на наиболее марксистскую сторону Кафки. Буржуазный субъект отлично осведомлён в том, что в деньгах нет ничего магического, что они – это лишь объект, представляющий определенную группу социальных отношений, но в повседневной жизни, тем не менее, он не ведёт себя таким образом, как если бы он верил в то, что деньги – это нечто магическое. Благодаря этому мы можем лучше понять мир Кафки, который могу непосредственно переживать эти фантазматические представления, которые отрицаются “нормальными” нами. “Магия” у Кафки – это то, что Маркс называл “теологической причудливостью” товаров. Если когда-то мы делали вид, что верим, но внутри оставались скептичны или же даже непристойно насмехались над общественными представлениями, то сегодня мы стремимся на публике выдавать себя за скептиков, гедонистов или просто непринужденных людей, тогда как внутри нас всё еще преследует вера и строгие запреты. И учитывая всё вышесказанное мы можем обратиться к Достоевскому и одной его ошибке. Речь идёт о наиболее радикальном выражении высказывания “если Бога нет, тогда всё позволено” в его небольшом и наиболее странном рассказе “Бобок”, который даже сегодня вызывает недоумение у его толкователей. Не является ли эта странная, “болезненная фантазия” продуктом психического расстройства её автора? Или же этот рассказ – циничное богохульство, отвратительная попытка спародировать истину Откровения? 6 В рассказе описывается спившийся литератор Иван Иванович, который страдает от странных голосых галлюцинаций:
Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: “Бобок, бобок, бобок!” Какой такой бобок? Надо развлечься. Ходил развлекаться, попал на похороны.
На похоронах своего дальнего родственника он остаётся на кладбище, где неожиданно становится слушателем циничного и фривольного разговора мёртвых:
И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу – звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.
Из этих подслушанных разговоров он узнаёт о том, что человеческое сознание продолжает жить еще некоторое время после смерти до полного разложения физического тела, которое умерши связывают с отвратительным булькающим словоподражанием “бобок”:
Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!
Мёртвые, осознав свою полную свободу от условий земной жизни, решают развлечь друг друга историями о своей жизнях:
— … я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!
— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса.
Ужасное зловоние, которое ощущает Иван Иванович, происходила не от разлагающихся тел, но было моральным зловонием. И когда он неожиданно чихает, мёртвые замолкают. Чары спадают и он возвращается в обычную реальность:
И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились, решились же ничего не стыдиться! Я прождал минут с пять и – ни слова, ни звука.
Михаил Бахтин увидел в этом рассказе квинтэссенцию искусства Достоевского, микрокосм всего его творческого продукта, изображающим основной мотив его мысли – идею о “вседозволенности” в случае отсутствия Бога и смертности души. В этом карнавале потустороннего мира “между двумя смертями” отменены все правила и любая ответственность, и немертвые могут отбросить стыд, вести себя как сумасшедшие, высмеивать добродетель и закон. Этический ужас подобного взгляда состоит в том, что он раскрывает ограниченность идеи “истины и примирения” – что если публичное признание собственных злодеяний преступника ведёт не к его этическому перерождению, но скорее производит некое прибавочное непристойное наслаждение?
Эта история о мертвецах, знающих о собственной смерти, оказывается противоположна сюжету одного сновидения, описанного Фрейдом, в котором отец сновидца продолжал жить (в бессознательном сновидца), потому что не знал, что он мёртв. В рассказе Достоевского мертвые, наоборот, полностью сознают собственную смерть, и потому это позволяет им полностью отказаться от стыда. Так что же мертвые пытаются скрыть от живых? В “Бобоке” мертвые не делятся ни одной бесстыдной истиной, так как их разговор обрывается в тот самый момент, когда они собирались “поделиться своим товаром” со слушателем и поведать свои непристойные тайны. Разрешение этого вопроса может быть притча о Вратах Закона из романа Кафки “Процесс” в котором поселянин, годами прождавший позволения от охранника войти в эти Врата Закона, уже умирая узнаёт, что этот вход был предназначен только для него. Что если в рассказе Достоевского целью всех этих разговоров мертвых об оставшихся месяцах бесстыдной правды было привлечение внимания и произведение впечатления на бедного Ивана Ивановича? Другими словами, а что если весь этот спектакль ”бесстыдной правды” был лишь фантазией самого Ивана Ивановича? Не стоит забывать и о том, что описываемый Достоевским мир не лишен Бога. Разговаривающие мертвые уже пережили свою биологическую смерть, что уже само по себе является свидетельством существования Бога, благодаря чему они и помогут себе позволить говорить обо всём, о чем им вздумается.
В этом рассказе Достоевского мы сталкиваемся в религиозной фантазией, не имеющей ничего общего с действительно атеистической позицией, хотя в нём он и стремился описать ужасный безбожный мир, “в котором всё позволено”. Что же побуждает этих мёртвых участвовать в этом бесстыдном “обнажимся”? Лаканианский ответ прост: их побуждает супер-эго, но не как этическое образование, а как непристойное понуждение к наслаждению. Благодаря этой мысли мы можем приблизиться к пониманию той тайны, которые мёртвые хотели скрыть от рассказчика – их стремление к бесстыдной искренности не был свободным решением, оно не имеет ничего общего с “теперь мы можем говорить (и делать) всё, что хотели, но чего нам не разрешали нормы и законы повседневной жизни”. Но, наоборот, их стремление поддерживалось жестоким императивом супер-эго – им необходимо было так поступить. Если тем, что мёртвые пытались скрыть от рассказчика, была компульсивная природа их непристойного наслаждения, и если в этом рассказе мы имеем дело с религиозной фантазией, то единственным выводом, к которому мы можем прийти будет: духи мертвых находятся под влиянием компульсивных чар злого Бога. И именно тут обнаруживается окончательная ложь Достоевского – то, что он представляет как ужасную фантазию о безбожнем мире, на самом деле оказывается гностической фантазией злого непристойного Бога. Более практичный следствием из этого будет вывод о том, что представления о “безбожном мире” осуждающих атеизм религиозных авторов часто основывается на проекциях вытесненной неприглядной стороны самой религии.
Я использовал термин “гностицизм” в его наиболее тонком значении, как отрицания ключевого элемента иудео-христианского мира – трансцендентности истины. Между иудаизмом и психоанализом можно обнаружить глубокую связь, и сильным аргументов в её пользу является то, что в обоих случаях фокусом внимания является травматическое столкновение с бездной желающего Другого, с пугающей фигурой непостижимого Другого, который хочет от нас чего-то, но не уточняет чего же именно: столкновение еврейского народа с их Богом, чей непостижимый Зов отпрокидывает привычный распорядок жизни, и столкновение ребёнка с загадкой наслаждения Другого (в этом случае, родителя). Язычество и гностицизм (как языческое переписывание принципов иудео-христианства) со своим акцентом на пути к истине как на “внутреннем путешествии” духовного само-очищения, как на возвращении к собственной Истинной Самости, “переоткрытии” себя, сильно отличаются от иудео-христианского понимания истины, основывающегося на травматической встречи с другим (божественный Зов к еврейскому народу, обращение Бога к Аврааму, таинственная Божья благодать). Кьеркегор был прав в том, что основное противостояние западной духовности можно описать как противостояние Сократа и Христа, противостояние внутреннего путешествия к памяти и перерождения через шок от столкновения с другим. В иудео-христианстве Господь Бог является предельным домогателем, чужаком, жестоко нарушающем баланс нашей жизни.
В идеологии кибер-культуре также можно увидеть различимые черты гностицизма. Кибер-пространство мечтает о Самости, свободной от привязанности к её природному телу через её превращение в виртуальной сущность, прывущую от одного её возможного и временного воплощения к другому. Такая места представляет из себя научно-техническую реализацию гностических грёз о Самости, свободной от упадка и инерции материи. Неудивительно, теоретики кибер-пространства так часто ссылаются на философию Лейбница, ведь он считал, что мир состоин из “монад”, микроскопических сущностей, живущих в само-замкнутом собственном пространстве без окон и дверей в их окружение. Сложно не отметить поразительное сходство между “монадологией” Лейбница и кибер-сообществом с его странным сосуществованием глобальной гармонии и солипсизмом. Разве наше погружение в кибер-пространство не идёт рука об руку с нашим превращением в монады Лейбница, которые хоть и “без окон и дверей” во внешнюю реальность, но в то же время отражают в самих себе весь мир? Всё более и более мы становимся монадами, не обладающими никаким доступом к реальности, одиноко взаимодействующими с экраном компьютера, встречающими только виртуальных симулякров, но при этом крайне погруженными в глобальную сеть и одновременно взаимодействующими со всем миром.
Пространство, в котором мертвые рассказа Достоевского могут свободно и бесстыдно вести беседы, предвосхищает эти кибер-гностические грёзы. Кибер-секс примечателен тем, что в нём, ввиду участия только виртуальных партнёров, нет места сексуальным домогательствам. Это свойство кибер-пространства (идея пространства, в которому ввиду отсутствия прямого контакта с реальными людьми, никому не докучают домогательствами и в котором нам предоставлена свобода в удовлетворении любых самых непристойных фантазий) находит своё крайнее выражение в недавно всплывшем в некоторых кругах США предложении о “перепродумывании” прав некрофилов (людей, желающих секса с мертвыми телами). Почему они лишены этого права? Это предложение было сформулировано следующим образом: если люди подписывают разрешение использования их органов для медицинских целей в случае неожиданной смерти, так почему же не предложить им подписывать разрешение использования их тел некрофилами? Такое предложение оказывается прекрасным примером того как политически корректная, борящаяся с домогательствами, позиция осознаёт старую мысль Кьеркегора о том, что единственно хорошим соседом может быть только мёртвый сосед. Мёртвый сосед, его труп, и является идеальным сексуальным партнёром для “толерантного” субъекта, пытающегося избежать любых домогательств, ведь, по определению, домогательства к трупу невозможны, и, в то же время, мертвое тело не способно наслаждаться и потому исключена пугающая опасность избыточного наслаждения субъекта, занимающегося сексом с трупом.
“Домогательство” принадлежит к тому ряду слов, которые несмотря на то, что они, как кажется, ссылаются на точно определенные факты, функционируют особенно двойсвенным образом и совершают идеологическую мистификацию. На самом базовом уровне этот термин определяет насильственный факты изнасилований, избиений, и других видов социального насилия, которые, конечно же, должны быть беспощадно осуждены. Но, тем не менее, в это базовое определение незаметно оказалось встроено осуждение любой лишней близости с другим человеческим существом, его/её желаниями, страхами и наслаждениями. Современное либеральное толерантное отношение у другим основывается на двух пунктах: уважение инаковости (открытости к ней) и страхе домогательств. Другой – ОК, но пока его присутствие не является навязчивым, пока другой не является другим. Толерантность совпадает со своей противоположностью: обязнность быть толерантным в отношении других означает то, что я не должен приближаться к ним слишком близко, не должен вторгаться в его/её пространство, то есть, коротко говоря, я должен уважать его/её нетерпимостью к моей сверх-близости. Именно этот принцип выступает всё более и более явным образом как основное “право человека” в поздне-капиталистическом обществе: право не подвергаться домогательствам, то есть находиться на безопасном расстоянии от других.
Сегодня в большинстве западных сообществ суды в случае исков о домогательствах (преследований, неуместных сексуальных предложений) выдают запретительное предписание. Человеку, обвиненному в домогательстве, может быть запрещено преднамеренно приближаться к жертве, и предписывается держать дистанцию в как минимум 100 ярдов. Несмотря на необходимость подобных мер, разве в них нельзя заметить защиту от травматического Реального желания другого? Разве не очевидно, что в открытом предъявлении страсти к другому человеку, есть что-то и пугающе насильственное? Страсть, по определению, увечит её объект, и даже если её адресат охотно согласен занимать это место, он всё равно не может его занять без предварительного изумления и трепета. Гегель как-то сказал: “Зло можно найти в том взгляде, который считает злом всё вокруг себя”, – нетерпимость к Другому обнаруживается в самом взгляде, который видит только нетерпимых назойливых Других. Стоит быть особенно внимательными в отношении тех случаев, когда слушим мужские голоса этой одержимости сексуальным домогательством к женщинам, ведь если стерпеть с них наклейку “про-феминистского” отношения, то под ней можно будет обнаружить старый шовинистский миф о беспомощных женщинах, которых необходимо защищать не только от мужчин, но и от самих себя. Проблема не в том, что они не способны защитить себя, но в том, что они начинают наслаждаться теми ситуациями, когда их сексуально домогаются – мужское вмешательство приведёт в действие их саморазрушительный механизм чрезмерного сексуального наслаждения. То есть следует обращать внимание на тот тип субъективности, которые подразумевается в различных навязчивых идеях о домогательстве: например, для “нарциссической” субъективности характерно считать действия других (их взглядов, их обращений) потенциальной опасностью, подобно утверждению Сартра о том, что l’enfer, c’est les autres (ад – это другие). Если говорить о женщинах, как об объектах этих домогательств, тогда мы сталкиваемся с тем, что чем более они одеты, тем больше внимания мы (мужчины) уделяем им и тому, что скрыто под их одеждой. Талибан не только обязывает женщин носить чадру, но также запрещает им носить обувь с каблуками из слишком плотного материала (металла или дерева), так как их громкое постукивание может отвлекать мужчин и беспокоить их внутреннее спокойствие. Таков парадок излишка-наслаждения – чем более скрыт объект, тем больше нас беспокоят минимальные признаки его наличия.
Это же справедливо и для набирающего обороты запрета курения. Вначале, во всех офисах объявили “свободными от курения”, потом так же поступили с авиаперелётами, ресторанами, аэропортами, барами, частными клубами, даже в некоторых общежитиях и в радиусе 50 ярдов от их входа, а потом Почта США убрала сигареты с почтовых марок, изображающих блюз-гитаристов Роберта Джонсона и Джексона Поллока (таким образом предлагая нам уникальный пример педагогической цензуры, напоминающей известные сталинистские практики ретуширования фотографий номенклатуры). Целью этих запретов является излишнее и рискованное наслаждение других, воплощенное в акте “безответственного” прикуривания сигареты и глубокого вдоха невозмутимого удовольствия (в отличии от яппи эпохи Клинтона, которые курят не затягиваясь, занимаются сексом без проникновения, принимают пищу без жира). Действительно, Лакан был прав – когда Бог мёртв, запрещено всё.
Одной из общих тем современной консервативной политики является вопрос того, что в наше всепозволительное время детям не достаёт чёткого ощущения ограничений и запретов. Этот недостаток фрустирует их, и приводит к тому, что они бросаются в одну крайность за другой. И только непоколебимые ограничения, установленные некой символической властью, могут гарантировать стабильность и удовлетворение. Такое удовлетворение достигается благодаря нарушению запретов и ограничений. Фрейд, для того чтобы указать на то, каким образом отрицание функционирует в бессознательном, обращается к реакции одного из его пациентов на его сновидение, в котором он ходил вокруг некой неизвестной женщины: “Эта женщина может быть кем-угодно, но точно не моей матерью”. Для Фрейда такое отрицание было ясным свидетельством того, что эта женщина была его матерью. В случае же современного типичного пациента, описание такого сновидения будет будет звучать следующим образом: “Кем бы ни была эта женщина, я уверен, что она как-то связана с моей матерью!”.
Обычно считается, что психоанализ помогает пациентам преодолеть препятствия на их пути к нормальному сексуальному удовлетворению – если вам “это не удаётся”, то сходите к аналитику и он поможет вам избавиться от ваших комплексов. Сегодня же, наоборот, нас со всех сторон понуждают: “Наслаждайся!”, – как в собственно сексуальной сфере, так и в сфере профессиональных достижений, и даже в сфере духовного. Сегодня jouissance функционирует скорее как некое странное этическое обязательство – люди чувствуют вину не потому, что нарушают некие моральные нормы, но потому что оказываются неспособны наслаждаться. И, в такой ситуации, психоанализ оказывается единственным дискурсом в котором вам можно не наслаждаться – в котором вам не запрещают наслаждаться, но позволяют быть свободными от принуждения к наслаждению.
Notes:
- Жак Лакан. Семинар XI. Четыре основные понятия психоанализа, стр. 67 / Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts, p. 59. ↩
- Объединяя этот сон с ранее упомянутым нами сном отца о его умиршем ребёнке пришедшим к нему с вопросом: “Отец, разве ты не видишь, что я горю?”, мы можем перефразировать утверждение Лакана как упрёк Бога-Отца: “Отец, разве ты не видишь, что ты мёртв?” ↩
- Жак Лакан. Семинар II. Я в технике Фрейда и технике психоанализе, стр. 184 / Jacques Lacan, The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, New York: Norton 1988, p. 128. ↩
- Карл Маркс. Капитал. Том 1. стр. 80 / Karl Marx, Capital, Volume One, Harmondsworth: Penguin Books 1990, p. 163. ↩
- Цитата из Jana Cerna, Kafka’s Milena, Evanston: Northwestern University Press 1993, p. 174. ↩
- Сам рассказ начинается со странного отрицания je est un autre (я есть другой) Рембо ↩