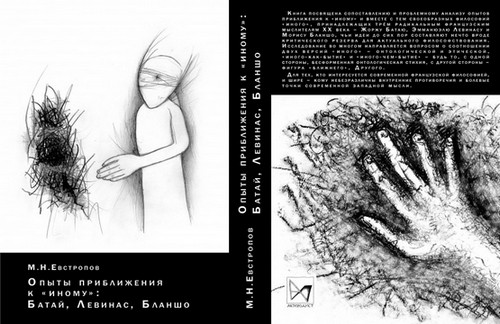Теперь, обрисовав исторический контекст «атеологии», вернёмся к вопросу об историчности того события, на которое она направлена. «Смерть Бога» имплицирует некую парадоксальную «историософию», служащую фоном для мысли Батая и Бланшо, основные черты которой мы и попробуем сейчас обозначить, по ходу дела обратившись к опыту Гёльдерлина в его истолковании у Бланшо, а также коснувшись вопроса о специфической темпоральное «внутреннего опыта» — на «микроонтологическом» уровне.
Итак, в качестве «начала» современности, или же в качестве того, что образует её «историческую реальность», само событие «смерти Бога» выпадает из «современности», равно как и из её совокупной «исторической реальности». Оно делает «современность» действительной, но само, в этом отношении, вряд ли когда-либо было таковым, «реальным». Оно подобно тому «абсолютному прошлому», которое, согласно Левинасу, никогда не было настоящим(1). Событие «гибели Бога» необратимо смещается в тот самый миг, когда разверзает область того, что отныне вообще может быть названо «настоящим». «До» этого события настоящего «не было».
Событие «смерти Бога» — как бы образцовое начало. Оно представляет собой некоторое «априори» современного опыта вообще. Но в этом «априори» нет и тени прочности, нет того, что «было от века». «Априори смерти» не принадлежит к плану налично сущих идеальных условий, пребывающих как бы вне события. Оно само событийно — оно есть то, что стало (или даже становится) быть. Оно есть онтологическое событие, «сбывание бытия». Оно связано не с постоянством вечности, а с катастрофическим временем, с «началом конца».
Действительно, событие «смерти Бога», размыкая собой современность, совпадает также с событием «конца истории». Как катастрофа, это событие есть то в истории, что выводит нас за рамки исторического, или, с другой стороны, оно есть подлинно историческое событие как сбывание истории — стало быть, её завершение и схождение на нет. В связи с этим само выражение «историческая реальность современности» приобретает двусмысленное звучание, ведь современность как раз таки и есть то, что обрывается в ирреальность, современность — то, что после «конца истории», она «постисторична». С другой стороны, именно в «современности», начало которой положено «смертью Бога», эта «смерть» становится событийной и историчной.
Время этого события — в каком-то смысле «священное» время. Вернее, то, что отныне собой представляет «священное» время, это время события «смерти Бога». Мы уже отмечали выше, что «современность» в каком-то смысле нуждается в мёртвом Боге, подобно тому, как мир традиции испытывал потребность в живом и непосредственном присутствии Бога. В «современности» событие «смерти Бога» — как «сакральное» — есть то, Что необходимо поддерживать. И наоборот, поддержание этого события есть свершение «современности». Убивать Бога — это и означает быть «актуальным».
Бланшо в своём эссе «Путь Гёльдерлина» («Пространство литературы», Приложение IV)(2) даёт весьма интересный комментарий к тому, что Гёльдерлин называл (die vaterllaendische umkehr, «поворотом к дому» («решительным поворотом», но также и «последним пределом страдания»). Эпоха живого присутствия богов (античность), согласно Гёльдерлину, сменяется современной эпохой бого-оставленности, и самое сложное в эту эпоху — возвратиться к себе, к собственным конечным возможностям — к тому духу «ясности» и «меры», что искони присущ человеку Запада, но между тем наименее ему знаком, поскольку западный человек предпочитает ему мистическую экзальтацию, присущую скорее грекам.
Это возвращение к себе не есть просто обретение твёрдой почвы, этот «поворот к дому» не есть просто отвращение от «неба» и утверждение плоского секулярного существования. Это выдержанная до конца богооставленность, которая в то же время на свой лад повторяет то движение, что совершается «самими богами», отворачивающимися от человека. Как пишет Гёльдерлин, «чтобы в ходе мира не было перерывов и память о Небожителях не утратилась, Бог и человек вступают во взаимоотношения под видом измены, в которой забвение всего, поскольку измена — лучшее из возможного»(3) , поскольку нужно «хранить Бога в чистоте отличия»(4). Бланшо, толкуя выраженную в этих фразах Гёльдерлина парадоксальную настоятельность, заключает: «Сегодня поэту уже не нужно стоять между богами и людьми как посреднику, он должен стоять перед двойной изменой, удерживаться в месте двойного поворота — богов и людей, их двойного и обоюдного порыва разойтись, открывающего зияние, пустоту, которая отныне и будет основополагающим отношением между мирами… поскольку пустое и чистое место, разграничивающее две сферы, и есть сакральное, глубина разрыва — вот что такое теперь сакральное»(5) . Тот, кто выдерживает этот поворот, несёт на себе бремя «двойной измены» и становится отдалённым как от Небожителей, так и от людей.
Между тем свершение «поворота» оказывается возможным лишь для человека: «Не всё им подвластно, // Небожителям. Смертные ближе // К бездне. И потому ими // Свершается поворот» (один из самых поздних фрагментов «Мнемозины»(6) ). Однако же «бездна» -это само бесформенное «сакральное», «бессловесный и вечно живой дух дикости, дух царства мёртвых»(7), куда зовёт за собой мёртвый Христос, «последний из богов». Поддерживать чистоту сакрального различия, нести на себе груз двойной измены — это разом и отвечать зову бесформенной ночи божественного, и сопротивляться этому зову, возможности непосредственного контакта с его разрушительной стихией, стирающей порядок и расстояние. Отсутствие богов, как отмечает Бланшо, «не чисто отрицательное отношение»(8) . Но тем оно и ужасно: «гармоничную благосклонность божественных форм, какими их представляли греки, богов света, богов изначального простодушия оно замещает постоянно рвущейся, постоянно ускользающей от нас связью с тем, что выше богов, — с самим сакральным или его превращённой сущностью»(9) . «Поворот» оказывается также и кризисом, критическим испытанием (и различением) «света» -того, что заповедано ушедшими богами.
«Божественное», «дух царства мёртвых» становится как бы самим «духом времени» (Der Zeitgeist — название одного из предсмертных стихотворений Гёльдерлина(10)), а поэт, поддерживая пустое святое место разрыва в его чистоте — как «межвременье», — становится тем, «в ком поистине поворачивается время, в ком время опять возвращается к себе, и от кого в это же время, поворачиваясь к себе, постоянно отворачивается Бог (11)».
Гёльдерлиновское «свершение времени» как «обоюдный порыв богов и людей разойтись» заставляет вспомнить излюбленное гегелевское словечко Verkehrung — превращение, оборачивание, переворачивание, извращение — но также и «претворение в действительность». Кроме того, травматический «поворот (Umkehr) к дому» оказывается вполне соотносимым с самим движением «опыта духа» как «снятия», Аи/ЬеЬип§, отголоски чего слышны в предисловии к гегелевской «Феноменологии»: «Око духа силой вынуждено было направляться на земное и задерживаться на нём; и потребовалось много времени, чтобы ту ясность, которой обладало только сверхземное, внести в туманность и хаотичность, в коих заключался смысл посюстороннего, и придать интерес и значение тому вниманию к действительности как таковой, которая была названа опытом (12)» (Гегель говорит здесь об историческом становлении «разума» (Уегпип/Т), для которого как раз и характерен «общий интерес к миру» (13) и — в движении Aufhebung — постижение того, что он и есть «вся реальность» (14)). Гегелевская «Феноменология», стало быть, описывает историческое свершение «поворота»: пространство атеологического превращения и есть сам опыт сознания. К сказанному можно добавить, что «сакральный» характер различия у Гёльдерлина, равно как и его слова об отошедших от мира богах — всё это впоследствии найдёт отклик также и в хайдеггеровской философии, в частности в его учении об «эпохах» бытия(15).
Итак, атеологическое от-вращение у Гёльдерлина есть не просто аффективное отшатывание от «божественного», но и выдерживание его хаоса, производство «свершения времени» и, в качестве такового, обретает некую странную этическую настоятельность. Разрыв с богами («обоюдный порыв разойтись») — не просто видимость измены, служащая лучшей сохранности тайны, не просто затемнение сокровенного света. Сам этот разрыв обладает императивным характером, «затемнение», забвение имеет собственное значение помимо значения того, что оно скрывает, — тем более, что сокрытию здесь подвергается «ничто» -этому «затемнению» не на что отбрасывать тень. Но при этом забвение остаётся тем, что оно есть — тенью. Так что его парадоксальная этическая настоятельность погружается в бесформенное беспокойство безосновной «тревоги».
Таким образом, «поворот» принадлежит истории, более того -в нём вершит себя и впервые себя обретает само историческое, так что «до» свершения поворота — в мифическую эпоху «божественного присутствия» и «субстанциальной жизни», во времена «непосредственного» — истории не было. Но поворот, открывая историю, вместе с тем представляет собой и последнее событие её. История на нём «сворачивается», и само по себе это «сворачивание» оказывается ирреальным. Такова «структура» исторического свершения, которое на «микроонтологическом» уровне оказывается аналогичным времени умирания.
В тексте 1933 г., опубликованном в 1936 г. как «Жертвоприношения» (16) (а впоследствии с незначительными сокращениями и под изменённым названием («В некотором смысле смерть — самозванка») включённом во «Внутренний опыт» (17)), Батай проводит обратную аналогию — между временностью «я-которое-умирает» — темпоральностью «бытия без отсрочки» — и «катастрофой» или же «революцией».
Само время здесь объявляется «объектом экстаза» я-которое-умирает, что содержит в себе отсылку к словарю хайдеггеровской философии, однако сходство с Хайдеггером здесь достаточно поверхностно; хотя «экстаз» в общем и понимается Батаем как «темпо-рализующее движение», происходит это движение совершенно иначе, чем у Хайдеггера. Время, «объект», «который требуется любви, неспособной высвободиться иначе, кроме как вне себя, чтобы испустить вопль растерзанного существования», — это катастрофа (не Бог и не ничто, уточняет Батай), и в этом полагании «объекта как катастрофы мысль переживает уничтожение, которое конституирует её как головокружительное и бесконечное падение; тем самым катастрофа для неё не только объект — сама её структура уже является катастрофой, она сама по себе — всасывание в ничто, поддерживающее её и в то же время ускользающее… Зеркало, внезапно перерезающее в грохоте сталкивающихся поездов глотку, является выражением этого императивного появления, безусловно-беспощадного — и в то же время уже уничтоженного»(18).
«Природа» времени оказывается всецело подобной «экстатической природе» я-которое-умирает: и та и другая суть чистые изменения, имеющие место «в плане некоего иллюзорного существования»(19) . Эта иллюзорность разочаровывает «жадный и упрямый вопрос «что существует?»», ведь утверждение существования времени «менее придаёт времени невнятный атрибут существования, нежели временную природу существованию; иными словами, оно лишает понятие существования его расплывчатого и неограниченного содержания — и в то же время бесконечно лишает его вообще любого содержания… Существование времени не требует даже объективного положения времени как такового: это существование, введённое в экстаз, означает лишь бегство и крушение всякого объекта, который рассудок пытается дать себе сразу и как ценность, и как фиксированный объект»(20).
Экстатическое утверждение катастрофы, разыгрывающееся в плане «безусловно-повелительного существования», являет собой «разочарование» чуть ли не в левинасовском смысле (как des-inter-esse-ment) — перевод в ирреальность, «трансгрессию» онтологического вопроса: «Утверждать иллюзорное существование я и времени (каковое есть не только структура моего я, но и объект его эротического экстаза) означает, стало быть, не то, что иллюзия должна подчиняться суждению о вещах, наделённых глубинным существованием, а что глубинное существование должно отбрасываться на иллюзию, которая его в себе заключает»(21). Время линейное, «виртуально обратимое», содержащееся и «практически аннулированное… во всяком постоянстве формы и в каждой последовательности, которую можно принять в качестве постоянства», оказывается в таком смысле лишь «частным случаем» времени «катастрофического».
Батай прибегает к кровожадной, ритуалистски-торжественной иконографии, живописуя образ этого временного эксцесса как «атеологической революции»: «Катастрофа — прожитое время -экстатически должна представляться не в облике старика, а в образе скелета, вооружённого косой, — ледяного, сияющего скелета, к зубам которого прильнули губы отрубленной головы. В качестве скелета оно есть завершённое разрушение, но разрушение вооружённое, возвышающееся до безусловной чистоты». Последняя «противостоит Богу, скелет которого скрывается под золочёной драпировкой, под тиарой и под маской: божественные маска и пленительность выражают приложение некоторой безусловной формы, выдающей себя за провидение, к отправлению политического подавления… Восстание — искажённое от любовного экстаза лицо — срывает с Бога его наивную маску, и тем самым в шуме времени рушится подавление. Катастрофа — это то, чем воспламеняется ночной горизонт, то, для чего вошло в транс растерзанное существование, — она есть Революция; она — освобожденное от всех цепей время и чистое изменение; она — скелет, вышедший, как из кокона, из трупа и садистски живущий ирреальным существованием смерти»(22).
Стоит отметить, что сходная революционно-катастрофическая структура временного свершения включается в те кругообразные фигуры, с помощью которых Бланшо описывает опыт письма, литературной коммуникации и умирания. Примечательно также и то, что Левинас в «От существовании к существующему» приписывает аналогичную темпоральную структуру дискретному событию мгновения — как некоторому «разрыву в бытии», тотчас, однако, затягивающемуся (23), так что неотвратимостью в этом событии наделяется не столько смерть, сколько факт связи с существованием (il y a), в своей ирреальности, впрочем, родственном тому «крушению всего», о котором повествует Батай.
1. См.: Левинас Э. Ракурсы // Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб., 2000. С. 318.
2. Бланшо М. Путь Гёльдерлина / Пер. Б.В. Дубина // Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. С. 274-282.
3. Бланшо М. Путь Гёльдерлина //Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. С. 277.
4. Там же. С. 278.
5. Там же. С. 279.
6. Бланшо М. Цит. соч. С. 281. В переводе С.С. Аверинцева: «…Ибо не всё // Небесные могут. До бездны дойти // Должно смертным. Потому и вспять оно обратилось, Эхо, // С ними…» (Гёльдерлин Ф. Сочинения. М.: Художественная литература, 1969. С. 181).
7. Бланшо М. Цит. соч. С. 280.
8. Там же.
9. Бланшо М. Путь Гёльдерлина // Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. С. 280.
10. См.: Гёльдерлин Ф. Дух времени / Пер. В. Шора // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М.: Художественная литература, 1969. С. 102.
11. Бланшо М. Цит. соч. С. 280.
12. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 5.
13. Там же. С. 130.
14. Там же. С. 125.
15. См.: Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. В.В. Бибихина // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 396. Что касается диалога хайдеггеровского мышления с поэтическим творчеством Гёльдерлина, см.: Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / Пер. Г.Б. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003. 320 с.
16. См. перевод В.Е. Лапицкого: Батай Ж. Жертвоприношения // Locus Solus: Антология литературного авангарда XX века. СПб., 2000. С. 101-110.
17. См.: Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 130-141.
18. Батай Ж. Жертвоприношения // Locus Solus: Антология литературного авангарда XX века. СПб., 2000. С. 107.
19. Там же. С. 108.
20. Там же. С. 109.
21. Батай Ж. Жертвоприношения // Locus Solus: Антология литературного авангарда XX века. СПб., 2000. С. 110.
22. Там же. С. 108.
23. См. Левинас Э. От существования к существующему // Левинас Э. Избранное Тотальность и бесконечное. М.; СПб., 2000. С 16-20.
2.3. «Поворот-отвращение»:революционно-катастрофическая структура временного свершения.
Избранная глава из Евстропов М.Н. Опыты приближения к «иному»: Батай, Левинас, Бланшо