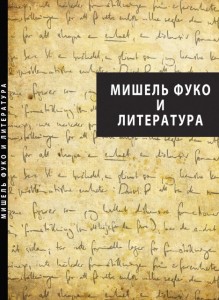Обращение Мишеля Фуко к литературе связано с вопросом об отношении мышления к культуре и прерывности в истории мысли. В этом контексте М. Фуко описывает становление эпистемы современности, а также бытия языка и литературы внутри эпистемы.
Касаясь характеристики современной эпистемы, М. Фуко рассматривает период от ее возникновения на рубеже XVIII-XIX в. и, приблизительно, до 1960-х — 70-х годов, т. е. до того времени, когда философом писались «Слова и вещи». Формирование современной эпистемы сопровождалось обретением языка радикально иного статуса, приобретением своего рода автономности и «грубости», которая после XVI в. была забыта. В современной эпистеме литература, как отмечал М. Фуко, осмысляется как предмет вне рамок означаемого и означающего. Отказываясь от классических расшифровок языка, литература отходит и от бинарного строя знаков. Если мысль XVII в. прекращает свое движение в сфере сходства, и подобие перестает быть формой знания, а рассматривается как форма ошибки, то с XIX столетия в связи с очередным разрывом в мышлении(1), ситуация кардинально меняется. Происходит обособление языка, который отныне называется «литературным», как, впрочем, и самой литературы, а точнее, понятия литературы.
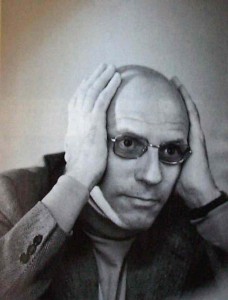 Литература бросает вызов своей родной сестре — филологии: она приводит язык от грамматики к чистой речевой способности, где сталкивается с диким и властным бытием слов (2).
Литература бросает вызов своей родной сестре — филологии: она приводит язык от грамматики к чистой речевой способности, где сталкивается с диким и властным бытием слов (2).
Литература вновь актуализирует язык в его бытии, исследование сигнификативной формы приходит к концу. М. Фуко отмечает, что
литература все более и более отличает себя от дискурсии мыслей и замыкается в своей глубинной самозамкнутости. Она отделяется от всех тех ценностей, которые могли в классический век приводить ее в движение (вкус, удовольствие, естественность, правда), и порождает в своем собственном пространстве все то, что может обеспечить их игровое отрицание (неприличное, безобразное, невозможное); она порывает с каким-либо определением «жанров» как форм, приложенных к порядку представлений, и становится простым проявлением языка, который знает лишь один закон — утверждать вопреки всем другим типам дискурсии свое непреклонное существование (3).
Утверждение бытия языка происходит в творчестве целого ряда писателей. В работах Мориса Бланшо, Жоржа Батая и Пьера Клоссовски прослеживается уход от определенности жанров, однозначности образов, создается иной стиль языка, призванный осуществить не задачи представления и описания, а высказывания того, о чем нужно молчать. Язык Бланшо обращен к смерти, он отражает противостояние орфического экстатического пения и смерти, обрекающей язык на бормотание. М. Фуко в статье «Мысль вовне», посвященной М. Бланшо, писал:
Прорыв к языку, из которого исключен субъект, обнаружение безоговорочной, по всей видимости, несовместимости между появлением языка самого по себе и самосознанием человека в его идентичности — вот опыт, который сказывается в весьма различных элементах нашей культуры: как в самом акте письма, так и в многочисленных попытках его формализовать, как в изучении мифов, так и в психоанализе. .Вот мы снова перед зиянием, которое долгое время оставалось незримым: бытие языка обнаруживается не иначе, как в исчезновении субъекта (4).
Батай показывает столкновение чистого безмолвия и нечистого слова через отношения тела к языку. Язык П. Клоссовски преодолевает тонкую грань литературы и философии, также стремясь показать напряжение между высказанным словом и молчанием о слове.
В неистовствах Батая, в коварной тревожной мягкости Бланшо, в спиралях Клоссовски есть нечто такое, что исходит из философии и в то же время играет ей, ставит ее под вопрос, совсем отходит от нее, а потом возвращается… Нечто такое, что, вроде теории вздохов у Клоссовски, связано неисчислимыми нитями со всей западной философией, но при помощи какой-нибудь мизансцены или формулировки, как это происходит в «Бафомете», вдруг отрывается от нее. Вот эти хождения по самой кромке философии делают проницаемой — стало быть, ничтожной — границу философского и нефилософского, — отмечал Фуко (5).
Эти три мыслителя в разной степени оказали влияние на творческие искания М. Фуко.
Становление философской позиции Фуко, с одной стороны, фундаментально связано с идеями трех писателей, и в тоже время — эта связь очень тонка в своем проявлении. В значительной мере именно благодаря работам П. Клоссовски и Ж. Батая у Фуко просыпается интерес к античной культуре, философии и религии, так же как и к средневековой мистике и отцам церкви, дополняя его давние штудии философского наследия средневековья. Обращение к теме религии и священного, постановка проблемы «религиозного» и методы ее исследования в поздних работах М. Фуко напрямую можно связывать с влиянием, оказанным на него П. Клоссовски, Ж. Батаем, М. Бланшо. Это подтверждают слова Фуко в одном из его интервью:
Долгое время во мне царил плохо разрешенный конфликт между страстью к Бланшо и Батаю и интересу к точным позитивистским исследованиям, какие проводил Дюмезиль и Леви-Стросс. Но, собственно говоря, оба эти направления (единственным общим знаменателем которых является, наверное, религиозная проблема) в равной степени способствовали моему приближению к мысли об исчезновении субъекта (6).
Понимание «религиозного» у Батая и Клоссовски оказало влияние на написание Фуко трех томов «Истории сексуальности», и в особенно большой мере повлияло на четвертый неопубликованный том (7).
Однако отношение М. Фуко к П. Клоссовски не ограничивается сферой идей. Фуко регулярно общался с Клоссовски с 1963 года, когда их познакомил Р. Барт. Фуко был первым слушателем и читателем «Бафомета» Клоссовски, вышедшего из печати с посвящением философу от автора. Общий язык им во многом помог найти Ницше, ценность которого они видели в том, что тот перестал говорить на языке антропологии. Язык Ницше стал для них тем идеалом, который Фуко и Клоссовски реализовали в своей философии без субъекта. Фуко всегда относился к Клоссовски с большим почтением. Зимой 1970-го он отзывается о Клоссовски так:
Создается впечатление, что все, в той или иной степени значимое — Бланшо, Батай, «По ту сторону добра и зла» неявно вело к этому: и вот, теперь все сказано… Вот о чем следовало думать: желание, ценность и симулякр — треугольник, подавляющий и определяющий нас уже на протяжении многих веков истории. Вот на что бросались, вылезая из убежищ, говорившие и говорящие, Маркс-и-Фрейд: теперь это выглядит смешно, и мы знаем, почему. Без Вас, Пьер, нам только бы и оставалось, что стоять перед этим упором, который как-то раз пометил Сад и который никому до Вас не удавалось обойти — к которому, по правде говоря, никто даже не приблизился (8).
О П. Клоссовски философ пишет, помимо различных критических заметок, отдельную работу —  эссе «Проза Актеона» (1964 г.), где особое внимание уделяется проблеме языка П. Клоссовски как примера бытия языка в современной литературе. Данная работа послужит основанием для дальнейшего анализа текстов Клоссовски.
эссе «Проза Актеона» (1964 г.), где особое внимание уделяется проблеме языка П. Клоссовски как примера бытия языка в современной литературе. Данная работа послужит основанием для дальнейшего анализа текстов Клоссовски.
Создавая совершенно новую перверсию, соединяя теологию и порнографию, Клоссовски возвращается к языку подобий и сходств. Насыщая свои тексты использованием косвенных форм, флексиями в языке и солецизмами, он предлагает совершенно новую литературу, литературу трансгрессии. Намечая пути движения мысли в обход диалектики, создавая язык подобий, язык разрывов, Клоссовски ознаменовывает финал традиционной философской мысли, приводя на ее место философию предела, за которым теряют смысл базовые оппозиции, ценности и смыслы западной культуры:
Клоссовски возобновляет отношения с давно утерянным опытом. Сегодня среди следов этого опыта не осталось способных нам на него указать; и они, несомненно, так и продолжали бы быть загадочными, если бы вновь не обрели на его языке живость и очевидность. И если бы благодаря этому вновь не заговорили, глася, что Демон это не Другой, не противоположный Богу полюс, не лишен ная (или почти лишенная) применения Антитеза, дурная материя, а, скорее, нечто странное, сбивающее с толку, оставляющее в растерянности и неподвижное: То же са мое, в точности Схожее (9).
Отказываясь от употребления знаков лингвистического типа, Клоссовски не обращается и к знаку религиозному, который всегда отсылает к некоему первоистоку, оригиналу, первому высказыванию. Клоссовски прибегает к языку подобий и к центральной, по мнению Фуко, идее Двойника, двойственности и серийности.
Благодаря П. Клоссовски, в мышление западно-христианской культуры, базирующейся на фундаментальных бинарных оппозициях и логоцентризме, вкрадывается мысль, ранее абсолютно не полагаемая сознанием: «Но что если Дьявол, напротив, если Другой — это Тот же?» (10). Что, если Бог и Дьявол суть одно и то же? И ошибкой является положение Бога одной, а Дьявола — кардинально другой стороной? Может быть, стоит поочередно сблизиться с разными сторонами, вступая в беспрерывную игру подобий. «Возможно, в этом сама суть спасений: не заявлять о себе знаками, а действовать в глубинах подобий?» — спрашивает М. Фуко (11). Осуществляя связь Бога с грамматикой, провозглашенной Ницше, Клоссовски ставит ее на службу Антихристу и извращению, соединяя теологию и порнографию, образуя высшую порнологию (12). На основе христианского опыта Клоссовски вновь обретает глубину подобий, прорываясь сквозь христианство теофанией греческих богов. Так в «Купании Дианы» богиня предстает одновременно как холодная и девственная истомленная охотница, и как божество, которое облечено в плоть, пронизанную желанием. Утверждая неприкосновенность своей природы, с одной стороны, Диана убеждает нас
в теофанической реальности своих щек, своих грудей и ляжек, позаимствованных у смерти наших чувств, тогда как волны оборачивают своими беспокойными полотнищами и девственное руно, и оплодотворимое чрево,ласкаемое нежными ладонями, которые сжимали лук, и гораздые в выборе стрел гибкие пальцы, что играют теперь с пупком и затвердевшими сосками… (13);
с другой стороны, она наполняет свою теофанию противоречивыми атрибутами — целомудрием и соблазном, тьмой и светом. Однако, возможно, что Актеон видит богиню не такой, а соединяет различные подобия своим желанием, видя образ, который сам и создает, интерпретирует: «Не он ли и придал этой теофании ее формы? Не был ли он ее толкователем?» (14) Анализируя сложность игры подобий в тексте Клоссовски «Купание Дианы», М. Фуко пишет, что
подобие еще подает себя в своей искрящейся свежести, не прибегая к загадке знаков. […] Купающаяся Диана, богиня, ускользающая в воду в то самое мгновение, когда она подставляет себя взгляду, это не только кружной путь греческих богов, это момент, когда нетронутое единство божественного «отражает свою божественность в девственном теле» и тем самым раздваивается на демона, который заставляет ее вдалеке от самой себя показаться целомудренной и в то же время предоставляет ее насилию Козла (15).
В этих словах заключается важная идея о том, что сущность божества Дианы через раздвоение видимости выходит из мифического пространства и вступает во время теологов.
Сравнение ряда произведений П. Клоссовски дает возможность установить наличие особых правил функционирования подобий. В текстах нет обращения к самоговорящему миру вещей. Любые предметы носят на себе отпечаток тела человека (портреты, фотографии, расстегнутые корсеты, «схожие с пустой, но все еще жесткой раковиной торса»), и только так функционируют. Подобиями всегда являются человеческие существа. Даже в том случае, когда действуют духи и призраки, в сущности мертвое, конечной целью их существования является воплощение в теле, уподобление живому. Здесь нужно вспомнить ситуацию, описываемую в «Бафомете», где дух Герезы желает войти в тело молодого пажа Ожье, чтобы сформировать андрогина, князя модификации. Другим правилом игры подобий является кружение их на месте: развратник-теолог, незнакомец скрывает в себе бога, студенты становятся нацистскими офицерами и др. Эта череда основана на двух конфигурациях видимости — гостеприимстве и театре.
Для иллюстрации указанных правил лучше всего обратиться к трилогии П. Клоссовски под названием «Законы гостеприимства» (романы «Отмена Нантского эдикта», «Сегодня вечером, Роберта», «Суфлер, или Театр общества», изданные в 1965 году). Центральным подобием в ряду подобий является образ Роберты. Ее муж Октав, пожилой профессор теологии, пытается размножить сущность Роберты, предлагая ее гостям, вдохновляя ее на соперничество с собственными двойниками. Проект Октава в отношении Роберты имеет целью заставить ее предчувствовать, что на нее смотрят, чтобы жесты и движения ее освободились от самости, в то же время не утрачивая видения себя. Распадаясь на отражения, сама Роберта кружит на месте в поисках своей сущности, объединяя размноженное в подобиях. Театрализация не ограничивается только тем, что Роберте иногда приходится играть саму себя. С одной стороны, Октав является постановщиком всего действа, с другой — зрителем. Не имея возможности, или не желая быть на месте супруга, Октав подсматривает за гостем и женой, одновременно показывая это племяннику. Подобным образом Октав познает целостность Роберты, собирая ее из элементов, считая недостаточным оставить ее для себя. Однако обладание Робертой имеет и иные измерения. Так, М. Бланшо выделяет в проекте Октава функцию дара. Октав предоставляет жену гостю потому, что таинствo супружества требует дара. Супруга в этой ситуации ыступает как самое священное, не подлежащее обмену священное.
Отдать жену другому — дар в высшей степени, обновленный акт святителя, который получил возможность поделиться неделимым «реальным присутствием», — отмечает Бланшо (17).
Через дар Октав познает жену косвенно, наблюдая скрытое священное, наслаждаясь «реальным присутствием». Со своей стороны, Роберта, будучи атеисткой, расстраивает теологический опыт, не противопоставляя себя ему, а дублируя его неким другим, так как она исходит из принципа экономики, заменяя дар обменом. Уподобляет поведение Октава акту дарения и М. Фуко. Он отмечает, что подарок становится подобием приношения в тот самый момент, когда Октав сохраняет из того, что дает:
[…] хозяин преподносит то, что чем обладает, так как он может обладать только тем, что предлагает — что имеется тут, у него на глазах, и для всех (18).
В завершение характеристики трилогии интересно отметить несколько фактов биографии П. Клоссовски, которые также приняли участие в игре подобий: третье имя его жены Денизы — Роберта; «роль» племянника Октава в реальных пробах «живых сцен» выполнял Мишель Бютор. Уподобляясь своим персонажам или их уподобляя себе, Клоссовски сделал невозможным поиск оригинала и высказывания на языке знаков. Философско-литературное творчество Клоссовски автобиографично, в нем смыкается описываемое и описывающий, через философскую рефлексию рождается необходимость говорить о собственной жизни. Картина действующих подобий в трилогии «Законы го степриимства» и других произведениях автора основа на на параллелизме тела и языка. Действие языка заменяется пантомимой тела. Тело утаивает язык, не дает сказать что-либо, чтобы не преступить черту. Здесь уместно вспомнить «Купание Дианы», где Актеон, не желающий сохранить безмолвие, претерпевает смерть из-за преступающего слова. Весь язык Клоссовски М. Фуко уподобляет преступающему слову Актеона:
Обычно, автор, говоря о себе как об авторе, прибегает к признаниям «дневника», который излагает повседневные истины — нечистую истину на лишенном излишеств, чистом языке. В этом подхвате своего собственного языка… Клоссовски изобретает пространство подобия, являющееся, наверное, современным, но еще скрытым местом литературы. То, что пишет Клоссовски, … сулит открытие: здесь видно, что бытие литературы не касается ни людей, ни знаков, но того пространства двойника, той полости подобия, в которой христианство оказалось очаровано своим Демоном, а греки опасались мерцающего присутствия богов с их стрелами (20).
Следуя мысли М. Фуко, можно сказать что П. Клоссовски посредством языка подобий открывает путь к преодолению и освобождению от мышления модерна и христианства, укорененных в бинарности и логоцентризме.
Илья Булышкин
1. Проблема прерывности в культуре развернута в работах М. Фуко «Слова и вещи» и «Археология знания».
2. Фуко М. «Слова и вещи» — М., 1977. С. 390.
3. Там же.
4. Эрибон Д. Мишель Фуко. — М., 2008. С. 183.
5. Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. статей / Под ред. А. В. Демичева, М. С. Уварова. — СПб., 1998. С.211-226.
6. Irwin J. Heterodox Religion and Post-Atheism: Bataille / Klossowski / Foucault. // Minerva — An Internet Journal of Philosophy, 10 (2006). P. 218.
7. Ibid., p. 217.
8. Эрибон Д. Мишель Фуко. С. 184.
9. Фуко М. Проза Актеона. // Клоссовски П. Диана и Бафомет. Пьер Клоссовски; [сост., пер. с фр. и послесл. В. Лапицкого} СПб.: Амфора. 2011. С. 367.
10. Там же, с. 368.
11. Эрибон Д. Мишель Фуко. С. 184.
12. Ж.Делёз. Логика смысла. — М., Академический проект. 2011
13. Клоссовски П. Купание Дианы. / Диана и Бафомет. 2011. С. 11
14. Там же.
15. Фуко М. Проза Актеона. С. 382.
16. Там же, с. 378.
17. Бланшо М. Смех богов // Клоссовски П. Диана и Бафомет. 2011-С. 399.
18. Фуко М. Проза Актеона. С. 378.
19. Лапицкий В. Великий мономан. // Клоссовски П. Диана и Бафомет. 2011. С. 419-420.
20. Фуко М. Проза Актеона. С. 386.