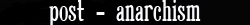БРОСАЙ!
Замечания к тезису о репрессии
«Зачем вы используете в ваших текстах псевдонимы?» - «Газета находится под наблюдением службы госбезопасности, и анархизм рассматривается ей как угроза государству». Из рецензии на изданную Берндом Дрюке книгу «Ja! Anarchismus. Gelebte Utopie im 21. Jahrhundert. 20 Interviews und Gespraeche».
«Откуда мы знаем, что Ya Basta!, Довольно!, существует? Мы знаем, что оно существует в нас всех, возможно, в довольно подавленном состоянии, всегда в противоречивой форме, но оно всегда есть, не только из опыта, но и просто потому что это неотделимая часть жизни в репрессивном обществе». Джон Холлоуэй, «Концепция власти у сапатистов», в «Два времени революции».
«В любом случае, гипотеза о репрессивной силе, которой пользуется наше общество по экономическим причинам посредством секса, кажется слишком близорукой». Мишель Фуко, «Воля к знанию. Сексуальность и правда I».
Физическое принуждение не является центральным средством утверждения власти. Банальное предложение, давно широко известный вывод. Уже ранние труды представителей Критической Теории руководствуются им, а также работы Пьера Бурдье принципиально исходят от него. Так зачем тратить слова на одну из левых банальностей? Ответ также прост и звучит: потому что он не признан. Множество современных социальных конфликтов базируется на том, что Мишель Фуко (1983) называл «гипотезой репрессии». Она исходит из того, что существует репрессивная, разрушающая, мешающая сила, которая препятствует развитию и самоопределению на коллективном и индивидуальном уровне. Государство, как монополия на насилие, считалось и считается – в соответствии с фокусом анализа – местом, субъектом или инструментом этой силы. Тут анархистские и марксистские теории довольно близки друг другу: Луи Альтуссер (1977) пишет: «Марксистская традиция однозначна: государство, начиная с «Манифеста» и «Восемнадцатого брумари» (и в более поздних классических текстах, прежде всего от Маркса о Парижской Коммуне и от Ленина о “Государстве и Революции”) явно понимается как репрессивный аппарат. Государство – это 'угнетающая' машина, которая позволяет правящим классам (в 19-ом веке буржуазии и 'классу' крупных землевладельцев) укреплять свою власть над рабочим классом, чтобы подчинить его процессу выжимания прибавочной стоимости (т.е. капиталистической эксплуатации)». Особенно доходчивой является гипотеза репрессии тогда, когда случаются эксцессы полицейской жестокости. Т.к. насколько периодически подобные акции выставляются безобидными или отрицаются официальной стороной, большие части политического класса оказываются в них замешанными. Так было с нападениями на протесты критиков глобализации в Генуе в 2001 г., при которых полиция не только напала на мирных демонстрантов со слезоточивым газом и блокировала их, работала заодно с фашистскими отрядами, застрелила демонстранта и серьёзно избила спящих противников глобализации, или с полицейской акцией в Атенко (Мексика) в мае 2006, в которой 3500 вооружённых полицейских с приказом бить всё, что движется, и применять при этом огнестрельное оружие, штурмовали деревню, и в которой как минимум 30 арестованных женщин были изнасилованы полицейскими. Наконец, это касается и намеренного невмешательства полиции как в случае неонацистского шабаша в Ростоке-Лихтенхаген в августе 1992 года, когда толпа фашистов под овации населения целый день терроризировала общежитие беженцев, в то время как вмешательство полиции было предотвращено. Тут монополия на насилие становится в определённом смысле практической, и все, кто хочет с этим бороться, ясно видят её перед собой в этот момент.
Т.к. они открыто формируются во вражде к любым формам государственности, анархистские движения и теории являются хорошим примером цепляния за гипотезу о репрессии – но примером для многих. Анархизм, как политическая идея и социальное движение, как известно, сформировался во второй половине 19-ого столетия. После краха буржуазной революции 1848/49 гг., государство идентифицировалось преимущественно с репрессивными монархическими режимами. Т.е. во время, когда было едва мыслимо думать о власти, не думая о короле. Даже когда анархистские идеи и движения позднее отмежевались от государственно-социалистических проектов и до Испанской революции относились и к буржуазной демократии весьма скептично, мотив остался тем же: мотив подавляющей силы как центральная мотивация деятельности политического сопротивления и момент мобилизации присутствовал с самого начала. И это функционирует до сих пор. А функционирует ли? То, что анархизм – само собой, одного анархизма никогда не было, а был широкий спектр анархистских идей и движений – некоторое время мог формировать массовое движение, зависело в основном от того, что этот мотив воспринимался не только одной небольшой частью политических активистов. Опыт репрессии имели не только несколько профсоюзников и борцов за права женщин, но, кажется, речь шла о понимаемой во многих областях общества фигуре. (То, что из этого общего горизонта опыта репрессии развились политические антистратегии, позволяет, кстати, говорить и о гипотезе репрессии как об общей фигуре, используемой и по сей день, которая относится не только к проблематике сексуальности, в коем отношении против неё выступал Фуко).
Общественная борьба и опосредование власти, однако, изменились. К репрессии присоединились другие механизмы, восстания не только кроваво подавлялись, но и предотвращались заранее – на уровне законов, возможно, как парадигма, в форме введения государственного социального страхования (1883), после запрета социал-демократических и социалистических организаций и активности (1878) в Германской империи. Уже в 1920-х и 30-х годах марксизмы попытались объяснить эти изменения теоретически и понять механизмы интеграции. Но вместо того, чтобы обратиться к законному/юридическому уровню, они замахнулись на большее: культура, в этом едины такие различные теории как от Антонио Грамши или Макса Хоркхаймера и Теодора В. Адорно, распознаётся как поле репродукции власти. «Общий знаменатель, культура, воображаемо содержит уже охватывание, каталогизацию, классификацию, которые забирают культуру в царство администрации» (Horkheimer/Adorno 1990). Т.к. власть необязательно нуждается в репрессии, то и антистратегии оказываются бесполезными, которые всё время выступают в соотношении с ней. Ещё представляемая европейскими городскими геррильерос 70-х годов стратегия спровоцировать «систему» на всплеск насилия, чтобы раскрыть её «фашистскую морду», соответственно уже сорок лет назад, по крайней мере, в западной Европе, не сработала.
Обращение Мишеля Фуко против «гипотезы репрессии» начинается с постановки вопроса о репрессии как о центральном моменте интеграции общества и установления власти. Не отрицая того, что репрессии были и есть, он настаивал на том, что нужно выделить продуктивные и творческие аспекты власти. Угнетение, в особенности касательно сексуальности, не является решающим, аргументирует Фуко вдоль долгой, указывающей именно на это, традиции, начиная с Зигмунда Фрейда до поколения 68-ого года. Секс подчиняется вместо цензуры приличия контролируемым и полиморфным стимулам к дискурсу. Секс становится, тем самым, вещью распределения и управления, не предотвращается, но поощряется. Поэтому Фуко требовал (1983) «думать власть без короля», т.е. не как центральную инстанцию или институт, а как проходящую сквозь все индивидуальные тела. Даже если Аксель Хоннет наверняка прав в том, что Фуко, как и Адорно, занимался вопросом: что в ходе процесса модернизации случается с человеческим телом, его (Фуко) «повышенная чувствительность к тем формам страдания» (Honneth 1990) не является единственным мотивом. Подчёркивание продуктивных аспектов власти, в конце концов, объясняется просто и доходчиво: если бы власть только угнетала, эффекты не были бы столь стабильными.
Даже если позитивные трактовки актуального положения дел в Латинской Америке создают иную картину, нужно всё же констатировать, что общественные отношения большей частью натыкаются на одобрение, чем на волю к перевороту. Несколько тысяч активистов движения Mayday, даже сотни тысяч критиков глобализации или из бразильского движения безземельных, или из «Другой кампании» сапатистов в Мексике, к которой уже присоединились более 1000 организаций, исчезают пред числом тех, кто не бунтует. Не сегодня и, наверняка, не когда-нибудь. Социальные движения, как и бессловесные соучастники, являются свидетельствами того, что общественные процессы происходят в форме общественных конфликтов. Поэтому представлять социальные движения как ведущие силы истории – к чему склоняются и пост-операистские теории – мне кажется искажением общественных реалий. Идёт ли речь о большинстве, о гегемониальных отношениях, прежде всего, вопрос ставится так: почему согласие с существующими условиями так велико? Если реагировать на него только на фоне гипотезы о репрессии, найдётся только один ответ: согласные ещё не поняли, насколько они угнетаются, ещё не разглядели своих оков, и их надо соответственно просветить (или просветиться самим). В этом заключается ещё один проблематичный эффект репрессивной гипотезы. Т.к. во-первых, при этом не учитывается, какими довольными и удобными становятся люди, разделяющие привилегии, и что за соглашением на переднем плане скрывается совсем не восстание или революция, а, возможно, ещё более глубоко сидящее удовлетворение. Во-вторых, этим скрываются более субтильные эффекты власти.
Согласны не только те, кто прямо или косвенно получают выгоду, но зачастую и те, кто в целом исключён из доступа к общественным ресурсам. (Разумеется, были и протесты против пакета законов Харц-4, но была так же выбрана «большая» коалиция из партий, которые запланировали и провели исторический конец благотворительного государства в Германии). Почему угнетаемые, как правило, скорее приспосабливаются, чем бунтуют, что подразумевает «акцентуация этого угнетения», Пьер Бурдье описал как «эффекты власти» (1987). Он, так сказать, социологически укрепляет подразумеваемую догадку Фуко о стабильности власти. Низшие классы, так звучит его критический тезис, встречают легитимную культуру как «принцип порядка» (Bourdieu 1987), в соответствии с которым они обустраиваются, и цементируется их социальное положение. Бурдье, как и Фуко, указывает на то, что власть впускается в тело и формирует через габитус схемы восприятия, мышления и чувств. Механизмы признания определённых схем классификации – т.е. то, что считается хорошим, правильным, важным и т.д. – по Бурдье являются центральными в воспроизводстве власти. Бурдье обозначает это перенятие царящих мерок, посредством которых увековечиваются общественные структуры, как «символическое насилие».
Так, независимо от того, переживает ли большинство государство как монополию на насилие посредством полицейской дубинки или как правовое нормирующее учреждение, гипотезу о репрессии можно ставить под вопрос. Т.к. рассуждение о символическом насилии не открывает оному заднюю дверь. Особенность монополии на насилие заключается не в том, что люди в униформе могут легитимно избивать. Она показывает эффекты и воздействия, которые вовсе не нуждаются в этом виде репрессивного насилия. Отказ от гипотезы о репрессии не означает отрицания общественных отношений насилия! Прежде всего, нужно указать на то, что оные поддерживаются, увековечиваются иначе, чем репрессивно. Общественные отношения никогда не являются свободными от насилия, но средства к их поддержанию существенно различаются. Не следует понимать символическое насилие ни как «духовное», ни как противоположность к «реальному», символическое насилие покоится на материальных культурных практиках (признание, удостоверение, ограничение и т.д.). И в этом случает речь идёт не об антропологических постоянных или природном развитии, но об общественных процессах – это подчёркивается как Критической теорией, так и Фуко и Бурдье. Как таковые они принципиально обращаемы и изменяемы. Поэтому нужно указать на эмансипаторный потенциал, который так же присутствует в культуре. Культура (понятая как конгломерат символов, ритуалов и практик) не является исключительно манипулятивной, оглупляющей, империалистической и объединяющей, как это обозначили Хоркхаймер и Адорно в тезисе об индустрии культуры, или одномерной, как писал Герберт Маркузе, но она скрывает возможности (при этом вовсе не следует заходить так далеко, как некоторые последователи Cultural Studies, которые уже узнавали «сопротивление» в определённом прослушивании определённых песен). Культурный порядок (и культура как принцип порядка) может быть нарушен, могут быть развиты другие порядки. Обыденность, которая заключается в признании царящих ценностей и норм, может вполне быть прорвана (на что Бурдье и прочие, возможно, обращали слишком мало внимания). Это иногда удаётся там, где ударение ставится на «собственную» идентичность, где развиваются пролетарские, индейские, феминистские или ещё какие-нибудь формы субкультурной жизни и политики, и где подчёркивается отграничение от «тех, сверху», «мужчин», «белых» и т.п. проблематика политики идентичности, в свою очередь, уже годы обсуждается (ср. Butler 1991, Hall 1994, обобщающе Kastner 2000), каждое из её обязательных объединений вызывает новые исключения. Объединиться как угнетённая группа, может быть в определённых исторических ситуациях выгодно и разумно с точки зрения боевой силы. Но тут скрывается один из многочисленных капканов, которые несёт с собой гипотеза о репрессии: эта форма образования общности всегда стремится к тому, чтобы сократиться до «радости быть правым», критикуемой Фуко и Зигмунтом Бауманом (1995). (Кстати, склонность, которую ещё Антонио Грамши насмешливо приписывал в особенности анархистам: они остановились в своём теоретическом развитии, «загипнотизированные убеждением, что они были правы и всё ещё являются таковыми»).
Хотя против радости и нельзя ничего возразить, но, соответственно ожиданиям, в этом контексте дело доходит до самых чудовищных коалиций и самых отчаянных проекций. В мае 2006 года в Вене, в рамках анти-саммита к встрече глав государств из Латинской Америки, Карибского региона и Европейского Союза, состоялся так называемый «Трибунал народов». На нём порицались махинации европейских концернов в Латинской Америке. Хотя на протяжении лет в сцене солидарности с Латинской Америкой люди пытаются различать относительно категории «народ»: на субконтиненте это слово, не как в Германии или Австрии, нагружено пролетарскими или индейским смыслом. Кто там, в политических дебатах говорит об «el pueblo», имеет в виду «тех, снизу» в противоположность белой олигархии. Образ хорошего, оскорблённого политическим классом и транснациональными концернами «народа» мог ещё неким образом быть перенесён на Чили или Уругвай 1970-х годов, но, самое позднее, с участием широких слоёв населения в неолиберальном консенсусе в Чили, Бразилии или Колумбии – даже если при этом учитывается то, чего не следует забывать, что продвижение этой модели стоило жизни тысячам профсоюзных деятелей, феминисткам, правозащитникам и другим базисным активистам – даже для Латинской Америки оказался далёким от реальности. Не обращая внимания на невероятное предположение, что в Австрии или Германии можно было бы воспользоваться этим позитивным образом: отделять «хороший» образ жизни «народа» от «плохих» привычек «концернов» является пред лицом соучастия всех довольно смехотворным занятием. То, что капитализм функционирует посредством эксплуатации, ставится под вопрос меньше, чем то, что мы живём в «репрессивном обществе» (Holloway). К тому же это просто преступно, именно здесь, где «народ» не только является теоритически-исторически категорией исключения par excellence, но это исключение конкретизировалось ещё и в массовом убийстве европейских евреек и евреев, позитивно связываться с этой категорией.
Даже если это было здесь весьма упрощённо представлено, в конце концов, тут действуют очень похожие конструктивные принципы: что для анархистов государство, то для критиков глобализации – транснациональные концерны: угнетающий противник. И это слишком близоруко, т.к. противник является не только угнетающим, и не только противником, но и нередко поставщиком норм, ценностей, инфраструктуры и товаров потребления (...). Чтобы, по возможности, сократить непонимание: как и прежде мы исходим из того, что существует неолиберальная гегемония, которая проявляет себя, с одной стороны, как экономика экспроприации, а с другой, проводит экономизацию социального. Как и все структуры власти, эти тоже базируются на насилии, а приспособление субъектов к таким структурам всегда основывается на социальной борьбе. Но центральные механизмы власти в актуальной фазе развития капитализма не являются репрессивными, но, более того, интегративными, соучаствующими, продуктивными. Большинство не надо заставлять затягивать потуже ремни или становиться менеджерами самих себя. Т.к. символическая власть не столько является репрессивной конструкцией, сколько эффектом способности, создавать схемы диспозиции и восприятия, которые делают восприимчивыми к власти и включают её в самое тело. «Фундамент символической власти находится не в мистифицированном сознании, которое надо только просветить», как пишет Пьер Бурдье (2005), «а в диспозициях, которые приспособлены к структурам власти, их продукту». Только переустройство условий производства диспозиций может, по этой теории, привести к общественным изменениям.
Предъявлять к этим условиям претензии на основании того, что это всё есть только обширная взаимосвязь угнетения и дезинформации, не соответствует этим условиям: во-первых, потому что многие даже не догадываются о том, что их угнетают, и даже при активнейшем просвещении говорят – it's alright, baby, я согласен. Хотя и нужно различать между согласием, признанием, смирением и обычным прагматизмом, должно быть всё-таки понятно, что в первую очередь или только репрессивные меры (или их угроза) не могут привести к этим различным, поддерживающим современные условия типам поведения. Во-вторых, независимо от эмпирии, т.к. от числа удовлетворённых, следует заметить, что и теоретический фокус должен быть перенесён на другие аспекты власти. Ибо они воздействуют действительно – механизмы культурного признания и ограничения, которые описал Бурдье, и разрастание дискурсов, о которых говорил Фуко (а так же стратегии консенсуса, к которым примеряется теория гегемонии, которым тут не нашлось места). Взгляд на вопросы сотрудничества, которые были поставлены в феминистских дебатах после Симоны де Бовуар (1983), или на исключения, которые производят контр-мобилизацию, замутняется хватанием за тезис о репрессии. И это приводит, в-третьих, к сомнительным коалициям и стратегиям, к «обществам правых», которых кроме веры во врага больше ничего не объединяет, и которые, кроме того, как в приведённом примере, не только сводят критику капитализма к критике концернов, но ещё и забывают Холокост.
Бросить гипотезу о репрессии означало бы, таким образом, выражаясь несколько экзотерически, дать упасть самим себе, т.е. начать действовать без двойного дна сконструированных и сомнительных истин.
1. Взаимосвязь между теорией Бурдье и теорией Франкфурсткой Школы подробно рассматривается у Bauer/Bittingmayer 2000.
2. Ещё анархист и активист Мюнхенской Советской Республики 1919 года, Густав Ландауэр (1989) отрицал такое понимание государства и оценивал государство как «общественное отношение». В 1970-е Луи Альтуссер и Никос Пулантцас отклоняются от парадигмы репрессии в отношении государства. Пулантцас (2002) обозначает государство как кристаллизацию соотношений силы.
3. Документацию событий можно найти на любом сайте Индимедии.
4. В первые четыре десятилетия 20-ого века анархизм был в различных странах, в том числе и в форме анархо-синдикалистских профсоюзов, одной из движущих сил рабочего движения. Свободный Союз Рабочих Германии (FAUD) ещё в начале 1920-х годов насчитывал около 150000 членов, испанский CNT (Confederacion Nacional del Trabajo) в 1930-х годах был самым крупным профсоюзом мира, а социальные движения Латинской Америки немыслимы без их анархистских корней (ср. Bruckmann/Dos Santos 2006).
5. То, что насильственное подавление, как и его угроза до сих пор являются действенными средствами для установления власти, здесь не отрицается. Только они больше не самые важные.
6. «Думать власть без короля» - значит исследовать новые методы власти, «которые работаю т не с правом, а с техникой, не с законом, а с нормализацией, не с наказанием, а с контролем, и которые проистекают не уровнях и в формах, которые выходят за рамки государства и его аппаратов» (Foucault 1983). Таким образом, власть – это «имя, которое присваивают сложной стратегической ситуации в обществе» (Foucault 1983).
7. Имеются в виду печально известный пакет законов Петера Харца, значительно урезавший систему социального обеспечения ФРГ, и актуальная правящая коалиция из социал-демократов и «христианских демократов», выбранная в 2005 году. Прим. перев.
8. О габитусе, диспозиции, символическом насилии и прочих терминах теории Бурдье см. http://bourdieu.narod.ru/ . Прим. перев.
9. «Символическая власть устанавливается путём согласия, которое подчинённый просто не может не засвидетельствовать правителю (и, следовательно, власти), т.к. он, чтобы охватить оного и себя самого, или лучше, своё отношение к оному, располагает только средствами познания, которые он с ним разделяет, и которые, т.к. являются только воплощёнными формами отношения власти, заставляют рассматривать это отношение как естественное (...)» (Bourdieu 2005). Как парадигматический пример парадоксов символического насилия Бурдье рассматривает мужскую власть.
10. Ещё и выраженная в начальной цитате иллюзия, быть опасным для царящего порядка, хотя объективные условия для его нарушения едва присутствуют – так, всё техническое снаряжение всего немецкого левого радикализма может тягаться только с техникой средненькой сберегательной кассы – поддерживается гипотезой о репрессии. Что, впрочем, не является аргументом в пользу отношения Грамши к анархизму.
11. Всё ещё любимый лозунг на демонстрациях в Латинской Америке, что объединившийся народ будет непобедим (El pueblo unido jamas sera vencido!), перенесённый на среднеевропейскую реальность, выражает ничто иное, как кошмарное видение.
12. О понимании государства движения критиков глобализации см. Kastner 2006.
13. Я благодарю редакцию журнала Grundrisse, которая указала мне на многие открытые и спорные аспекты этой зарисовки. Даже если текст, не в последнюю очередь по причине употребляемых в нём теоретических терминов, всё равно выказывает слабые места, он, возможно, послужит поддержанию дискуссии о показанных слабых местах современных социальных движений. – Й.К.
Литература:
Althusser, Louis 1977: Ideologie und ideologische Staatsapparate, in: ders.: Ideologie und ideologische Staatsapparate, Hamburg/Westberlin, S.108-153.
Bauer, Ulrich und Uwe H. Bittlingmayer 2000: Pierre Bourdieu und die Frankfurter Schule. Eine Fortsetzung der Kritischen Theorie mit anderen Mitteln?, in: Rademacher, Claudia und Peter Wicechens (Hg.): Verstehen und Kritik. Soziologische Suchbewegungen nach dem Ende der Gewissheiten, Wiesbaden (Westdeutscher Verlag), S. 241-298.
Bauman, Zygmunt 1995: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Frankfurt a. M. (Fischer Verlag).
Beauvoir, Simone de 1983: Das andere Geschlecht, Reinbek (Rowohlt Verlag).
Bourdieu, Pierre 1987: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M. (Suhrkamp Verlag).
Bourdieu, Pierre 2005: Die mannliche Herrschaft, Frankfurt a. M. (Suhrkamp Verlag).
Bruckmann, Monica und Theotinio Dos Santos 2006: Soziale Bewegungen in Lateinamerika. Eine historische Bilanz, in: Peripherie. Zeitschrift fur kritische Sozialwissenschaft, Heft 142, 36. Jg., Nr. 1, 2006, S. 7-22. Butler, Judith 1991: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M. (Suhrkamp Verlag).
Foucault, Michel 1983: Der Wille zum Wissen. Sexualitat und Wahrheit 1, Frankfurt a. M. (Suhrkamp Verlag).
Gramsci, Antonio 1919: Der Staat und der Sozialismus. Nachwort zu einem Artikel von For Ever „Zur Verteidigung der Anarchie“ vom 28. Juni bis 5. Juli 1919, aus: www.marxistische-bibliothek.de/ gramscistaat.html (11.03.2006)
Hall, Stuart 1994: Rassismus und kulturelle Identitat. Ausgewahlte Schriften 2, Hamburg (Argument Verlag), S. 26-43.
Holloway, John 2006: Das Konzept der Macht und die Zapatistas, in: ders.: Die zwei Zeiten der Revolution, Wien (Verlag Turia + Kant), S. 39-55.
Honneth, Axel 1990: Foucault und Adorno. Zwei Formen einer Kritik der Moderne; in: ders.: Die zerrissene Welt des Sozialen. Sozialphilosophische Aufsatze; Frankfurt a. M. (Suhrkamp Verlag), S. 73-92.
Horkheimer, Max und Theodor W. Adorno 1990: Dialektik der Aufklarung. Philosophische Fragmente; Frankfurt a. M. (Fischer Verlag).
Kastner, Jens 2000: „Kein Wesen, sondern Positionierung“. Zur Geschichte der Identitatspolitik, in: Arranca!, Berlin, Nr. 19, Fruhling 2000, S. 6-11.
Kastner, Jens 2005: Staat und kulturelle Produktion. Ethnizitat als symbolische Klassifikation und gewaltgenerierte Existenzweise, in: Schultze, Michael, Jorg Meyer, Britta Krause und Dietmar Fricke (Hg.): Diskurse der Gewalt – Gewalt der Diskurse, Frankfurt a. M./ Berlin/ Bern/ Brussel/ New York/ Oxford/ Wien 2005 (Peter Lang. Europaischer Verlag der Wissenschaften), S.113-126.
Kastner, Jens 2006: Globalisierungskritik und Krafteverhaltnisse. Zur Staatskonzeption bei Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky und Subcomandante Marcos, in: Marchart, Oliver und Rupert Weinzierl (Hg.): Stand der Bewegung? Protest, Globalisierung, Demokratie – eine Bestandsaufnahme, Munster 2006 (Verlag Westfalisches Dampfboot), S. 172-193.
Landauer, Gustav 1989: Auch die Vergangenheit ist Zukunft. Essays zum Anarchismus. Herausgegeben von Siegbert Wolf, Frankfurt a. M. (Luchterhand Verlag).
Poulantzas, Nicos 2002: Staatstheorie. Politischer Uberbau, Ideologie, Autoritarer Etatismus, Hamburg (VSA).
Материал взят на www.grundrisse.net
Перевод с немецкого: Ndejra