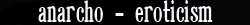ГЕЛИОГАБАЛ или КОРОНОВАННЫЙ АНАРХИСТ
(отрывок)
Анархист заявляет:
Ни Бога, ни хозяина, я - сам по себе.
Гелиогабал, оказавшись на троне, не признает никакого закона, он - хозяин. Его собственный, личный закон станет, следовательно, законом для всех. Он устанавливает тиранию. Любой тиран по существу - только анархист, который захватил корону и поверг мир к своим ногам.
 Однако в анархии Гелиогабала есть и другая идея. Считая себя богом, идентифицируя себя со своим богом, он никогда не совершает ошибки, придумывая человеческий закон, абсурдный и нелепый человеческий закон, с помощью которого с ним, богом, могли бы говорить.
Однако в анархии Гелиогабала есть и другая идея. Считая себя богом, идентифицируя себя со своим богом, он никогда не совершает ошибки, придумывая человеческий закон, абсурдный и нелепый человеческий закон, с помощью которого с ним, богом, могли бы говорить. Он сообразуется с божественным законом, в который он был посвящен, и надо признать, что за исключением нескольких крайностей и нескольких незначительных шуток, Гелиогабал никогда не отступал от мистической точки зрения воплощенного бога, которая соответствует тысячелетнему божественному обряду.
По прибытии в Рим Гелиогабал изгоняет из сената мужчин и сажает на их места женщин. Для римлян это -анархия, но для религии менструаций, которая изобрела тиренский пурпур, и для Гелиогабала, который проводит ее в жизнь, это просто-напросто восстановление равновесия, вполне обоснованное возвращение к закону, поскольку именно женщина была рождена первой, именно она шла первой в космическом порядке, к которому он возвращается, создавая свои законы.
Время от времени Гелиогабал пролетал во весь опор на своей колеснице, покрытой чехлом, а следом за ним в обозе следовал огромный десятитонный Фаллос, помещенный в монументальное сооружение, некое подобие клетки, сделанной, казалось, из костей кита или мамонта. Иногда Гелиогабал останавливался, показывая свои богатства, демонстрируя свою пышность и щедрость, а также устраивая странные парады перед тупым и перепуганным народом. Увлекаемый вперед тремя сотнями быков, которых приводят в ярость, изводя сворами воющих цепных гиен, Фаллос на огромной низкой телеге, с колесами, шириной равными бедрам слона, пересекает европейскую часть Турции, Македонию, Грецию, Балканы и нынешнюю территорию Австрии со скоростью бегущей зебры. Затем, время от времени, начинает играть музыка. Все останавливаются. Снимают покровы. Фаллос, с помощью веревок, поднимается на своем цоколе, устремляясь вверх. Появляется группа педерастов, затем актеры, танцовщицы и галлы, оскопленные и превращенные в мумии.
Ибо существуют еще и обряд покойников, и обряд сортировки, отбора членов - предметов, сделанных из мужских членов, растянутых и продубленных, с зачерненными концами, словно палки, обожженные на огне. Насаженные на концы палок, словно свечи на гвозди, словно острия на конец пики; подвешенные, как колокольчики, на загнутые золотые дужки; наколотые на огромные доски, словно гвозди на щит, - эти члены кружатся среди огня в танце галлов, и люди, поднявшиеся на ходули, заставляют их танцевать, словно они живые существа.
И всегда в момент пароксизма, исступления, когда хриплые голоса доходят до женского контральто, выступает Гелиогабал, на лобке которого красуется нечто вроде металлического паука с лапками, вонзающимися ему в кожу, из-за чего при каждом резком движении на его бедрах, напудренных шафраном, выступает кровь. Его член, смоченный золотом, покрытый золотом, незыблемый, твердый, бесполезный, безопасный. Гелиогабал появляется в своей золотой тиаре и мантии, перегруженной драгоценными каменьями и сверкающей огнем.
Его выход - танец, он проходит великолепно поставленным танцевальным шагом, хотя в Гелиогабале нет ничего от танцора. Тишина, а затем вновь вспыхивают страсти, и пронзительная оргия возобновляется. Гелиогабал вбирает крики, направляет этот природный обжигающий жар, смертельный жар, бесполезный обряд.
Между тем, все это: каменья, обувь, одежда и ткани, все участники действа, потерявшие голову от музыки струнных или ударных инструментов - кроталий, цимбал, египетских тамбурахов, греческих лир, систр, флейт, а также все эти оркестры из флейт, азоров, арф и небелей, также как все эти стяги, животные, звериные шкуры, птичьи перья, которые переполняют истории того времени, - словом, вся эта чудовищная пышность, охраняемая по периметру пятьюдесятью тысячами человек из специальных отрядов, которые были убеждены, что везут солнце, эта религиозная пышность имеет смысл. Мощный ритуальный смысл, потому что все действия Гелиогабала - императора имеют смысл, в противоположность тому, что об этом говорит История.
Гелиогабал входит в Рим ранним утром в марте 218 года, в один из дней, которые примерно соответствуют мартовским идам. Он входит в город, пятясь, задом наперед. Перед ним - Фаллос, увлекаемый тремя сотнями девушек (каждая - с обнаженной грудью), которые идут впереди трех сотен быков, теперь оцепеневших и спокойных, потому что перед рассветом им дали точно отмеренную порцию снотворного.
Он входит, украшенный перьями, переливающимися всеми цветами радуги, которые хлопают на ветру, как знамена. Позади него - золотистый город, слегка призрачный. Перед ним - толпа надушенных женщин, дремлющие быки. Фаллос, на своей коляске, обитой золотом, которое сверкает под огромным зонтом. А по краям - двойная анфилада из трещоточников, флейтистов, дудочников, лютнистов и тех, что колотят в ассирийские цимбалы. И еще дальше - все три матери: Юлия Мэса, Юлия Соэмия и Юлия Маммея, христианка, которая делает вид, что дремлет и ничего не воспринимает.
В том, что Гелиогабал входит в Рим на заре, в первый день мартовских ид, имеется, не с римской точки зрения, но с точки зрения сирийского жречества, обратное применение принципа, ставшего мощным обрядом. Но, главным образом, здесь присутствует обряд, который с религиозной точки зрения означает то, что означает, а с точки зрения римских обычаев означает, что Гелиогабал входит в Рим господином, но задом, и что он, прежде всего, заставляет римскую империю содомизировать себя. Празднования по случаю коронации завершились, и -отмеченный этим обетом педерастической веры - Гелиогабал устраивается вместе с бабкой, матерью и ее сестрой, коварной Юлией Маммеей, во дворце Каракаллы.
Но все корабли этой флотилии имеют пробоины, а пожар, вспыхнувший его заботами прямо посреди Тирренского моря, избавляет его, с помощью театрального кораблекрушения, от притязаний узурпатора.
Легко представить себе разодетого и накрашенного Гелиогабала, окруженного своими миньонами и женщинами, который обходит ряды седых бородачей, хлопает их по животам и спрашивает, занимались ли они тоже содомией в молодости; и стариков, бледных от стыда, склоняющих головы перед оскорблением, пережевывающих свое унижение.
Более того, прямо на публике, жестами, он изображает акт скотоложства.
«Он дошел до того, - говорит Лампридий, - что стал изображать непристойности пальцами, и привык к выражению недовольства со стороны стыдливых людей в собраниях и в присутствии народа». Конечно, здесь было большее, чем инфантильность - скорее, желание с помощью резкости и силы продемонстрировать свою индивидуальность, а также свой вкус к первичным вещам: природе, такой, какая она есть.
Впрочем, очень легко отнести на счет безумия и юности все то, что для Гелиогабала - только систематическое унижение порядка, и отвечает единственному желанию -согласованной деморализации общества.
Я вижу в Гелиогабале не безумца, но повстанца:
1. Против анархии римского политеизма;
2. Против римской монархии, которую он принудил к содомии с ним.
Но в нем перемешались два бунта, два восстания, и они управляют всем его поведением, руководят всеми его поступками, вплоть до самых ничтожных, в течение всего его четырехлетнего царствования. Его восстание - систематическое и проницательное, и он направляет его, прежде всего, против себя самого.
Когда Гелиогабал наряжается проституткой и продает себя за сорок грошей у дверей христианских церквей или у храмов римских богов, он стремится не только к удовлетворению порока, но унижает таким образом римскую монархию.
Когда он велит поставить танцора во главе преторианской гвардии, он проводит в жизнь неоспоримую и опасную анархию. Он высмеивает малодушие и трусость монархов, своих предшественников, всех Антониев и Марков Аврелиев, и считает, что вполне достаточно, чтобы отрядом полицейских командовал танцор. Он называет слабость - силой, а театр - реальностью. Он опрокидывает, переворачивает вверх дном полученный в наследство порядок, идеи, обычные понятия. Он тщательно создает опасную анархию, поскольку открывается для всеобщего обозрения. Словом, он рискует своей шкурой. А это - отважная анархия.
Наконец, он продолжает свою деятельность по унижению ценностей и чудовищной моральной дезорганизации, выбирая министров по размеру их членов.
«Во главе ночной стражи, - сообщает Лампридий, -он поставил кучера Гордия, и назначил префектом по вопросам продовольствия некоего Клавдия, который прежде был надзирателем нравов; все другие должности были отданы мужчинам, величина членов которых делала их достойными его доверия. Например, он назначал на должности по сбору двадцатой части податей погонщиков мулов, посыльных, поваров, кузнецов».
Это не мешало ему самому пользоваться беспорядком, бесстыдным ослаблением нравов, превращать непристойность в привычку и упрямо демонстрировать, словно под воздействием навязчивой маниакальной идеи, то, что обычно скрывают.
«Во время пиров, - рассказывает далее Лампридий, -он предпочитал усаживаться рядом с мужчинами - проститутками, потому что получал удовольствие от их прикосновений, и охотнее, чем от кого-либо другого, принимал кубки, из которых они пили».
Любые политические образования, все формы правления стараются, прежде всего, обратить внимание на молодежь. Гелиогабал тоже старается опереться на латинскую молодежь, но, в противоположность всем, систематически ее развращая.
«У него был план, - говорит Лампридий, - посадить в каждом городе людей в ранге префекта, обязанностью которых было бы развращение молодежи. В Риме таких людей должно было быть четырнадцать; и он сделал бы это, будь он жив, поскольку решил, что ему следует возвести в достоинство все то, что является наиболее отвратительным, гнусным, и возвысить людей самых низких профессий».
Впрочем, не приходится сомневаться в глубоком презрении Гелиогабала ко всему римскому обществу того времени.
«Он не однажды, - замечает Лампридий, - признавался в своем презрении к сенаторам, которых называл рабами в тогах; римский народ для него был только землекопом, и он ни во что не ставил сословие всадников».
Его склонность к театру и к поэзии в полную меру проявилась в день его первой женитьбы: Он размещает рядом с собой, на все время длительного римского обряда, дюжину опьяненных или одержимых крикунов, которые, не переставая, кричат: «Пробивай, впихивай», к великому смущению газетчиков той эпохи, которые не донесли до нас описание реакции невесты.
Гелиогабал женится три раза. В первый раз - на Корнелии Павле, второй раз - на первой весталке, третий -на женщине, у которой голова Корнелии Павлы; затем он разводится и снова берет свою весталку, чтобы вернуться, наконец, к Корнелии Павле. Здесь следует заметить, что Гелиогабал берет свою первую весталку не так, как довоенный махараджа в парижской опере берет первую танцовщицу и женится на ней, но явно с намерением богохульства и кощунства, которое вызывает чрезмерную ярость другого историка, Диона Кассия.
«Этот человек, - говорит он, - которого следовало бы высечь розгами, бросить в тюрьму и предать поруганию, уводит в свою постель хранительницу священного огня и лишает ее невинности посреди всеобщего молчания».
Я уверен в том, что Гелиогабал - первый император, который осмелился низвергнуть этот военный обряд, охрану священного огня, и который осквернил, как он и должен был это сделать, времена Палладия. Гелиогабал воздвигает храм своему богу прямо в центре римской набожности, на месте маленького невыразительного храма, посвященного Юпитеру Палатину. После того, как старый храм снесли, он велел возвести более богатую, но меньшую по размеру, копию храма Эмесы.
Но усердие Гелиогабала по отношению к своему богу и его склонность к обрядам и театру, никогда не были выражены лучше, чем во время свадьбы Черного Камня с супругой, достойной его. Он велел разыскивать эту супругу по всей империи. Таким образом, даже в том, что касалось камня, он должен был исполнить полностью священный обряд, доказать силу действия символа. И это - что вся история расценит как еще одно безумство или бессмысленное ребячество - мне представляется материальным и строгим доказательством его поэтичной религиозности.
Ибо Гелиогабал, который ненавидит войну и чье царствование не было замарано ни одной войной, даст Элагабалу в качестве супруги не Палладий, который ему предлагают, этот кровожадный Палладий, находящийся в руках Палласа, Палладий, которого следовало бы, скорее, называть Гекатой, так как ночь, из которой она вышла, приманивает рождение будущих воинов, а Танит-Астарту Карфагенскую, с ее теплым струящимся молоком, что не идет ни в какое сравнение с жертвами, принесенными Молоху.
Неважно, что у Фаллоса, Черного Камня, на внутренней грани есть нечто, внешне похожее на женские гениталии, которые высекли сами боги: этим двойным осуществленным спариванием Гелиогабал желает показать, что член - активен, и что он действует, и не важно, что это лишь образ и абстракция.
Единство, Анархия,
Поэзия, Диссонанс,
Ритм, Разлад,
Величие, Ребячество,
Великодушие, Жестокость.
Он кормит оскопленный народ.
Конечно, нет теорб, нет туб, нет оркестров азоров во время кастраций, которые он предписывает, но предписывает каждый раз так, как если бы это были персональные кастрации, как если бы кастрировали его самого, Элагабала. Мешки с гениталиями с жестоким изобилием разбрасываются с высоты башен в день чествования Пифийского бога.
Я не уверен, что оркестр из азоров или небелей со скрипучими струнами и жесткими утробами не был спрятан где-нибудь в подвалах спиральных башен, чтобы заглушить крики приживальщиков, которых кастрируют; но этим крикам терзаемых людей вторят приветственные вопли ликующей толпы, которой Гелиогабал раздает стоимость нескольких хлебных нив.
Добро, зло, кровь, сперма, розовое вино, благоухающие масла, самые дорогие духи - щедрость Гелиогабала создает бесчисленные потоки.
И музыка, рождающаяся там же, минует ухо, чтобы достичь души без инструментов и без оркестра. Я хочу сказать, что шумная музыка, избитые напевы, эволюции хилых оркестров - ничто по сравнению с этим приливом и отливом, этим потоком, который приходит и уходит со странными диссонансами, с его великодушием и жестокостью, его склонностью к беспорядку в поисках порядка, неприемлемого в латинском мире.
Я повторю, впрочем, что кроме убийства Ганниса, единственного преступления, которое ему можно приписать, Гелиогабал отправил на смерть только ставленников Макрина, который сам был предателем и убийцей, но с неизменной бережливостью относился к человеческой крови. За весь период его царствования наблюдается очевидная диспропорция между пролитой кровью и действительно убитыми людьми.
Точная дата его коронации неизвестна, но известна цена, в которую обошлась его щедрость в этот день имперской казне. Она была так велика, что могла бы подорвать его собственную материальную независимость и обременить долгами его казну на все оставшееся время его правления.
Он постоянно следит, чтобы щедрость его милостей соответствовала его представлению о королевской власти. Он помещает слона на место осла, лошадь - на место собаки, льва туда, где сгодилась бы и обычная кошка, всю коллегию ритуальных танцовщиц - туда, где предусмотрено место только для кортежа детей-сирот.
Повсюду размах, крайность, изобилие, чрезмерность. Великодушие и самая чистая жалость уравновешивают спазматическую жестокость.
Проходя по рынкам, он плачет, наблюдая нищету черни.
Но в то же время он заставляет по всей империи разыскивать матросов с изрядными членами, которых он называет Нобелями, арестантов, острожников, убийц, которые стараются угодить его сексуальным аппетитам и ужасными грубостями сдабривают его разгульные пиры.
Он торжественно открывает, начиная с Зотика, кумовство полового члена!
«Некий Зотик был настолько влиятельным при нем, что все другие старшие офицеры обращались с ним, как если бы он был мужем своего хозяина. Кроме того, этот самый Зотик, злоупотребляя своим близким положением, придавал дополнительную значимость всем речам и действиям Гелиогабала. Рвущийся к огромному богатству, на одних он воздействовал угрозами, на других - обещаниями, обманывая всех, и, выходя рядом с принцем, старался отыскать каждого, чтобы сказать: «Я сказал вот это о вас, вот что я услышал на ваш счет; вот что должно с вами произойти», как делают люди такого сорта, которые, будучи допущенными к принцам достаточно близко, торгуют репутацией своего хозяина, неважно, плохая она или хорошая; и благодаря глупости или неопытности императоров, которые ничего не замечают, кормятся удовольствием разглашать позор...».
Он дает народу все, что от него требуют: ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ.
Даже когда он кормит народ, он кормит его с видимым лиризмом, он преподносит ему тот зародыш экзальтации, который присутствует в глубине любого подлинного великолепия. И народ совсем не затронут, не задет его кровавой тиранией, которая никогда не ошибается в цели.
Всех, кого Гелиогабал посылает на галеры, кого кастрирует, кого велит бичевать, он выбирает среди аристократов, знати, педерастов своей личной свиты и дворцовых тунеядцев.
Он методично преследует одну цель, и я об этом уже говорил: извратить и разрушить значение и ценность любого порядка, но что восхитительно и что доказывает необратимый упадок латинского мира - это то, что он может на протяжении целых четырех лет, открыто, на глазах у всех, проводить свою работу по систематическому разрушению этого порядка, и никто не смеет протестовать, а его собственное падение по своей значимости не превышает уровня обычного дворцового переворота.
Через цвет и значение камней, форму одежды, распорядок праздников, драгоценности, которые непосредственно соприкасаются с его кожей, его дух совершает странные путешествия. Именно в такие моменты можно было видеть, как он бледнеет или дрожит в ожидании вспышки молнии или раската грома, в поисках взрыва, сверкания, резкости, за которые он цепляется перед тем, как в ужасе бежать прочь.
Именно здесь проявляется высшая анархия, когда вспыхивает его глубокое беспокойство и он бежит от камня к камню, от вспышки к вспышке, от формы к форме и от огня к огню, в мистической внутренней одиссее, которую никто после него не смог повторить.
Я вижу опасную навязчивую идею и для других, и для того, кто ей предается, когда каждый день меняются одежды и поверх каждого наряда надевается один камень, никогда не повторяющийся, соответствующий небесным знакам. Здесь присутствует нечто большее, чем стремление к безмерной роскоши или естественная склонность к безумному мотовству, - имеются свидетельства огромной, ненасытной лихорадки духа, души, жаждущей эмоций, движений, перемещений, склонной к метаморфозам. Какова бы ни была цена, которую придется за это платить, и риск, который с этим связан.
В том, что он приглашает к своему столу калек, и каждый день меняется форма недуга приглашенных, я узнаю тревожащую склонность к болезни, к недомоганию, склонность, которая будет возрастать вплоть до поиска болезни в самом широком смысле, то есть нечто вроде непрерывающегося заражения, имеющего размах эпидемии. И это - тоже анархия, но духовная и благовидная, и тем более жестокая, тем более опасная, что она неуловима и скрыта.
Если он выделяет день, чтобы заняться едой, это означает, что он впускает пространство в свою систему пищеварения, и что трапеза, начатая на заре, закончится на закате, пройдя все четыре стороны света.
Потому что от часа к часу, от блюда к блюду, от дома к дому, от направления к направлению Гелиогабал меняет место, пересаживается. И окончание еды означает, что он завершил дело, что он замкнул круг в пространстве и внутри этого круга он сумел удержать оба полюса своего пищеварения.
Гелиогабал довел до пароксизма погоню за искусством, погоню за ритуалами и поэзией среди самого абсурдного великолепия.
«Рыба, которую он велел себе подавать, всегда была приготовлена под соусом, имеющим цвет морской воды, и сохраняла свой естественный цвет. Какое-то время он принимал ванны из розового вина с розами. Он пил из них со всей своей свитой и использовал нард для ароматизации парильни. Вместо масла он наливал в лампы бальзам. Никогда женщина, за исключением его супруги, не удостаивалась его объятий дважды. Он устроил в своем жилище дом терпимости для своих друзей, ставленников и слуг. На ужин он никогда не тратил менее ста сестерций. Он превзошел в этом плане Вителлия и Апиция. Он использовал быков, чтобы вытягивать рыбу из живорыбных садков. Однажды, проходя по рынку, он заплакал, увидев нищету народа. Он развлекался тем, что привязывал к мельничному колесу своих тунеядцев и, вращая колесо, то погружал их под воду, то поднимал над водой: тогда он называл их своими дорогими Иксионами».
Не только римское общество, но сама земля Рима и римский пейзаж были им разворошены, перевернуты.
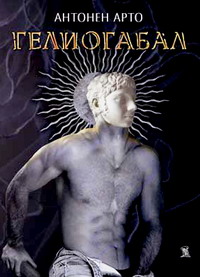 «Еще рассказывают, - говорит тот же Лампридий, -что он устраивал навмахии, морские сражения, на озерах, выкопанных вручную, которые он велел наполнить вином, и что плащи воинов были пропитаны соком дикого винограда; что он привел в Ватикан колесницы, в которые были запряжены четыре слона, велев сначала разрушить гробницы, которые мешали их продвижению; что в Цирке, для своего личного спектакля, он велел запрячь в колесницы по четыре верблюда в ряд».
«Еще рассказывают, - говорит тот же Лампридий, -что он устраивал навмахии, морские сражения, на озерах, выкопанных вручную, которые он велел наполнить вином, и что плащи воинов были пропитаны соком дикого винограда; что он привел в Ватикан колесницы, в которые были запряжены четыре слона, велев сначала разрушить гробницы, которые мешали их продвижению; что в Цирке, для своего личного спектакля, он велел запрячь в колесницы по четыре верблюда в ряд». Его смерть - венец его жизни; как с римской точки зрения, так и с точки зрения самого Гелиогабала. Его постигла позорная, подлая смерть бунтовщика, который погиб за свои идеи.
Перед всеобщим раздражением, вызванным этим разливом поэтической анархии, да еще и подпитываемым исподтишка коварной Юлией Маммеей, Гелиогабал позволил себя обойти. Он согласился с ней и взял в качестве помощника дурное отражение самого себя, что-то вроде второго императора, юного Александра Севера, сына Юлии Маммеи.
Но если Элагабал - мужчина и женщина, он не может быть одновременно двумя мужчинами. Здесь присутствует материалистический дуализм, который означает для Гелиогабала оскорбление принципа, а этого он не может принять.
Он в первый раз восстает, но вместо того, чтобы поднять против юного императора-девственника народ, который любит его, Гелиогабала, народ, который пользовался его щедростью и видел, как Гелиогабал плакал, увидев его нищету, - Гелиогабал пытается поручить убийство Александра своей преторианской гвардии, открытого мятежа которой он не чувствует, и во главе которой все еще стоит танцовщик. И тогда его собственная охрана поворачивает оружие против него, а Юлия Маммея ее подталкивает; но вмешивается Юлия Мэса. Гелиогабал вовремя скрывается.
Все успокаивается. Гелиогабал мог бы принять свершившийся факт, терпеть рядом с собой этого бледного императора, к которому он ревнует, и которого, хотя он и не пользуется любовью народа, любят военные, охрана и знать.
Но напротив, именно в этот момент Гелиогабал демонстрирует свою суть - необузданный и фанатичный сливное отверстие для сточных вод. Но как бы тонок он ни был, он еще достаточно широк для него. Надо принять меры.
К имени Злагабала Бассиана Авита, называемого также Гелиогабалом, уже добавили насмешливое прозвище Варий (изменчивый), потому что он родился от смешения различного семени у проститутки; затем ему дали прозвища Тиберийца и Тасканного, потому что его тащили и сбросили в Тибр после неудавшейся попытки засунуть в сливное отверстие; но до этого, оказавшись перед отверстием, попытались его подрезать, так как у него оказались слишком широкие плечи. Таким образом, удалось спустить в канаву кожу, обнажив скелет, который оставили нетронутым; так что ему вполне можно было бы добавить еще два прозвища - Разделанный и Освежеванный. Но и освежеванный, он остается еще слишком широким, и его тело покачивается в Тибре, который уносит его к самому морю, и за ним, на некотором расстоянии, покачивается на волнах труп Юлии Соэмии.
Так закончил Гелиогабал, без эпитафии и гробницы, но с ужасающими похоронами. Он умер трусливо, но открыто взбунтовавшись; и такая жизнь, увенчанная такой смертью, мне кажется, не нуждается в заключении.